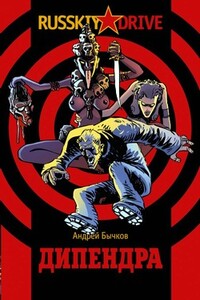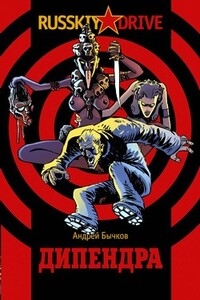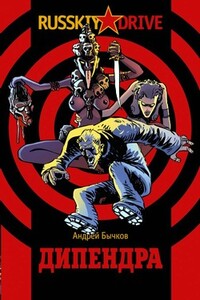Конский Левушка | страница 6
– Отец – хорошо. Много работает, – произнес доброжелательно Лёва, поднося к носу кусочек «Рокфора».
Федор сидел на корточках и ел тайком на кухне изюм, Лев видел сейчас Федора, говоря «хорошо», говоря «много работает», Федор, облысевший, с торчащими космами на висках, с малиновым носом и безумными голубыми глазами, радостно поедающий последний изюм, вложивший последние деньги в «Чару» (так глупо и подло-возвышенно назывался банк), с надеждой жить на буржуазные проценты и петь лишь из благотворительности, а по вечерам рассматривать альбомы Боттичелли, аккомпанировать себе на рояле, иногда прерываясь, чтобы извлечь из памяти какой-нибудь афоризм, Федор, в шею вытолканный из оперы, где устроили стриптиз-клуб, продавший за бесценок рояль, погоревший в банке со своей надеждой на проценты, Федор, сидящий на водокачке, которую он, быстро сориентировавшись, арендовал, чтобы подкачивать буржуа, Федор, быть может единственным живым чувством которого, чувством заставляющим продолжать жить, было чувство любви к сыну, которому он запрещал подрабатывать, которого учил экономить, заставляя донашивать свои старые, коммунистического еще режима, вещи, и которому упорно внушал, что жениться можно только после тридцати, когда уже чего-нибудь достигнешь, Федор, живущий тайной надеждой, что его сын Лев, пройдя через муки образований, достигнет замка на том берегу, хрустального замка российского ренессанса, Федор, предупреждавший каждое движение дитяти, отдающий последние ботинки для путешествия, которое должно было бы по задумке венчать, направляя через Брюссель в Париж, через связи Элоизы, через отвращение к ней, через стоившее так много душевных усилий примирение, через письма, которые он писал Элоизе от лица матери Льва, своей жены, направляя будущее сына в Сорбонну, не догадываясь, что тот в сердцах называет его Федором, а когда он, Федор, по-отечески властно поправляет ему на людях воротничок, то про себя просто Федькой, и дело не в соринке, попавшей в глаз, и слеза – не слеза, а лютая капля бессильной ненависти, подлой и еще более подлой, оттого что приходится улыбаться, наклоняясь, вырывая наклоном тела воротничок из ногтей отца, ссылаясь на развязавшийся шнурок, извиняясь перед рыхлыми пожилыми его подругами, несчастными культурными работниками несчастного подлого государства, предающего свою культуру уже во второй раз всего за один век; «Что диктатура пролетариата, что диктатура буржуа», – аристократично зевали подруги, прикрывая зевоту изящными толстыми пальцами, делая вид, что не замечают неучтивого недуховного наклона Лёвы к слегка ослабленному шнурку…