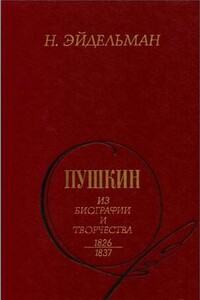Первый декабрист | страница 15
Аракчеев, вслед за своими предшественниками (начиная с Петра I), старается отбирать в артиллерию наиболее смышленых. Любопытно, что при пушках в XVIII веке состояли очень многие Ганнибалы и Пушкины: не исключено, что „артиллерийская фамилия“ во многом определила военную специальность, но, как знать, не родилось ли еще в XIV–XV веках прозвание „Пушкин, Пушкины“ у лиц, склонных к этой новейшей технике?
В артиллерии Пушкины, Ганнибалы, Раевские…
Сабанеев же страшным летом и осенью 1812 года остается на юге, в украинских и молдавских степях. Он прикрывает южные пределы империи и впервые за многие десятилетия — не в сражениях. Кутузов, прежний главнокомандующий, в августе 1812 года уж принимает армию в 200 верстах от Москвы, а Сабанеев лишь с опозданием на неделю и больше узнает о Смоленском сражении, о Бородине, о потере и пожаре Москвы, о начале наполеоновского отступления, о славных делах на Калужской и Смоленской дорогах, где действует 17-летний, никому почти не известный офицерик при своих пушках.
Сколь простой кажется история 1812 года задним числом, когда мы знаем, чем дело кончилось: сначала неприятеля заманили, потом — прогнали…
Если б заранее знали ответ исторической задачи, можно было бы, кажется, без всякой боязни, без лишних сражений отступать хоть за Урал, в Сибирь; французы растеряются, сами уйдут…
Но, не зная, что будет завтра или через месяц, отступавшие стыдились каждого французского успеха, скорбели о каждом потерянном городе; раненый Багратион не пережил известия о потере Москвы, — а ведь всего через месяц потеря обернется победой!
В этих обстоятельствах величие, суеверие, героизм, подозрение, реальность, фантастика — все вместе. И вдруг важным историческим фактором становится нерусская фамилия Барклая, который будто бы изменнически ведет французов в Москву, и еще немного — войско взбунтуется. Но тут является Кутузов, восклицает: „Как можно отступать с такими молодцами!“ — и продолжает тактику Барклая.
Пройдет четверть века, и Пушкин, отдавая должное предшественнику Кутузова, скажет: „Народ, таинственно спасаемый тобою…“ В „секретной“ Х главе „Евгения Онегина“ задан вопрос о главном победителе: „Барклай, зима иль русский бог?“
Поэт чувствует тайну, сложнейшую тайну той войны. Со стороны кажется удивительным и странным, как даже самые умные „действующие лица“ истории видят лишь на ход вперед (что уж говорить про людей простых. бесхитростных!). На ход вперед видит и прапорщик Раевский, и младшие офицеры Чаадаев, Пестель, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы, и генерал Сабанеев. Может быть, лишь Кутузов просчитывал игру на два-три хода, но опасался слишком подробно делиться с окружающими: достаточно с них хотя бы убеждения, веры, что старик знает нечто им недоступное…