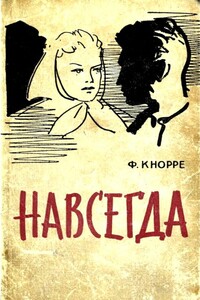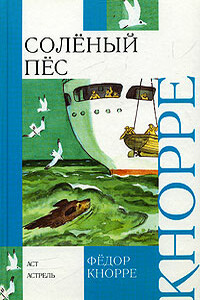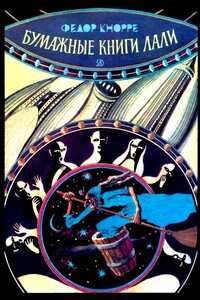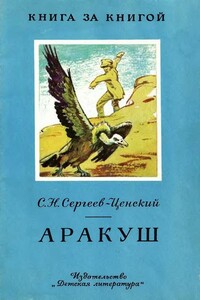Оля | страница 51
— У вас вид, внушающий невольное доверие.
— Что-о-о? Это ещё что такое?
— Возможно, это усы у вас такие, внушающие.
— Что? Какие усы?
— Такие, очень злодейские. Какие бывают… Ну, он будто разбойник, а на самом деле добрый.
— Это такое подхалимство, хитрая ты червячина!
— Нет, это точно. Я проницательная. Если подхалимство, то разве самую капельку…
— Ну, больше прыгать не будешь? Обещаешься?
— По правде? Буду. Мне, кажется, понравилось. Ну, без вас, потихоньку больше не буду. А вы обещайте меня червяком не называть, ладно?
Глава пятнадцатая
До тех пор пока не изобретён прибор, измеряющий силу, напряжение и горечь человеческого горя (а его, кажется, ещё не начали изобретать), невозможно решить задачу, чьё горе горше, чьё меньше, чьё больше: А, выехавшего из пункта Б, или В, отправившегося ему навстречу из пункта Г.
Некоторые полагают, что у маленького человека и горе должно быть меньше, а у большого — больше. Ну и очень глупо полагают, думала Оля, сидя на краю обрыва в том месте, откуда они спускались купаться к реке ещё в те дни, когда ходили мимо Танкреда.
Папу они сегодня проводили на вокзал, и он уехал в Ленинград один. Вид у него был замкнутый, но ещё больше оскорблённый, когда он прощался с мамой.
В самый-самый последний момент мама что-то сказала очень тихо. Пана ответил: "Зачем?" Мама ещё тише ответила ему, и он отчётливо проговорил, тоже вполголоса, но Оля-то расслышала: "Когда ты одумаешься, напиши первая…"
А на Олю он как будто и внимания не обратил: чмокнул в щёку, погладил по затылку какой-то деревянной, неласковой рукой и сказал, чтоб она слушалась маму — вполне нелепые слова: они с мамой друзья, и верят друг другу, и любят, и Оля уже не маленькая, так что это «слушайся» показывало, что папа просто позабыл, что ей уже не три, не пять, не семь лет.
Главное же, он понимал — она вся целиком на стороне мамы, и этого ей не прощал. Ей было жаль, что он уезжает, ей хотелось его утешить, обнять, сказать, что она его всё-таки любит, но всё равно она не за него, а за маму. И она не посмела броситься к нему на шею, а тоже чмокнула в щёку и даже не заплакала.
А потом вот ушла на обрыв, села и всё это стала вспоминать и вспомнила заодно и Танкреда, и вдруг так его стало жаль, что вслух проговорила:
— Милый, бедный Танкреша! — и от этого разревелась вслух.
И тогда до смерти стало жалко и папу, как он говорил: "Я вас забираю, и точка!", всё повторял эти непреклонные и повелительные слова, такие жалкие, когда он сам уже чувствовал, что ничем он больше не повелевает…