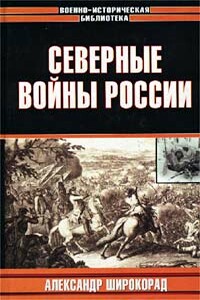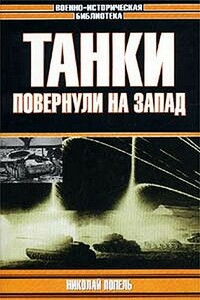В тяжкую пору | страница 71
— Горим!..
Немцы поливали берег жидкостью, от которой загоралось обмундирование, начинала тлеть кожа.
Ни до этого дня, ни после я ничего не слыхал о подобной жидкости. Лишь во время войны в Корее стало известно о напалме. Состав, примененный американцами, сильнее немецкого. Заокеанские химики, надо полагать, опирались на новейшие достижения науки. Но приоритет принадлежал не им, а их германским коллегам, трудившимся на потребу Гитлеру.
26 июня 1941 года фашистское командование испытывало горючую жидкость на дивизиях генерала Мишанина и полковника Герасимова.
Я видел, как мутная капля, не больше дождевой, покатилась по травинке и травинка пожелтела, свернулась.
Несколько капель попало на плечи Плешакова. Однако гимнастерка не вспыхнула. Я тут же высыпал на плечи полковнику две пригоршни земли.
Это была не совсем еще совершенная по своему действию жидкость. Одежда загоралась не от двух-трех капель, а, вероятно, от нескольких ложек. Наибольший эффект она давала, как я потом узнал, разговаривая с товарищами из дивизии Мишанина, в сухом лесу.
Но суматоху на плацдарме поливка вызвала неописуемую. Все бросились к воде. Кто-то крикнул:
— Иприт!
Тогда я увидел на берегу Зарубина. Он напоминал героев кинофильмов о гражданской войне. Левая рука на перевязи, в правой — пистолет.
Не оглядываясь, Зарубин побежал вперед по изрытому снарядами и минами полю.
Первые дни войны, — если не бояться громких слов, — дни великих открытий на каждом шагу, в каждом деле, в каждом человеке, в себе самом. Открытий радостных и горьких, окрылявших и ударявших оземь.
— Зарубина понимать надо, — объяснял секретарь полкового партбюро старший политрук Котюх.
Задевая один другого коленями, мы с Котюхом сидели в неглубокой воронке от тяжелой мины. Это было километрах в двух от реки. Не заметили, как пробежали их. Зарубин правильно сообразил. Немецких солдат перед появлением самолетов с горючей жидкостью отвели к роще. Отсюда, с опушки, они и постреливали. Сейчас постреливали вяло, безразлично.
Клонившееся к закату солнце превращало лес в зубчатую черную стену, отбрасывавшую широкую тень на поле. Это мешало нам наблюдать за противником.
Зарубин уложил батальон в цепь, приказал окапываться. Но теперь и без приказа каждый боец, едва ложился на землю, доставал из чехла лопатку. Лопата вдруг стала самым необходимым предметом. Ода появилась за поясом даже у командиров.
— …Он не «словесный» политработник, — продолжал Котюх о Зарубине. — Те на любой случай готовую фразу имеют, а Зарубину, чтобы сказать, подумать надо. Думает не всегда быстро. Поначалу я тоже к нему никак не мог привыкнуть. Придешь по обычному делу, доложишь все по порядку, а он: подумаю. Чего тут, спрашивается, думать, когда все проще пареной репы. Я и решил: погорел, видно, на чем-нибудь, теперь страхуется. Потом вижу — ему впрямь всегда подумать надо… На командирских занятиях мы с ним в одной группе были. Так он, смотрю, никакой вопрос не стесняется задать. Не поймет, снова спросит. Иные подмигивают, а его это будто и не касается. Ему разобраться надо…