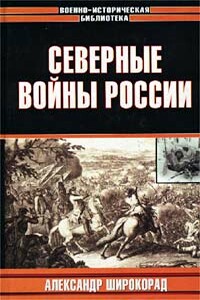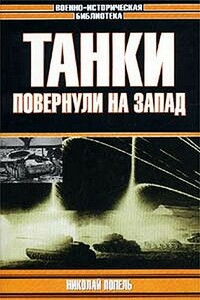В тяжкую пору | страница 68
Жужжащие осколки, коротко присвистывающие пули парализовали, сковали бойцов — голову не поднять. Каждый прижался к земле, хочет вдавить себя в нее. Тут уже не до прицельного огня, не до какой-то там боевой задачи. Завесой металла ты, одинокий, маленький, беспомощный, отсечен от всего на свете. И нужны, кажется, сверхчеловеческие силы, чтобы подняться, рвануться вперед…
Вот здесь-то и решает всё слово и личный пример командира, политработника. Но ни тех, ни других на плацдарме почти не видно. Сорокин объяснил: большинство вышло из строя при первых атаках. Вырывались вперед, да еще в фуражках, темных брюках, с пистолетами в руках. Фашистским снайперам раздолье…
— Бомбы — ничто, — кричал мне в ухо Плешаков. — Минами и автоматами губит. Бойцов без счета потеряли. И командиров…
Убитые повсюду. Пробираясь сюда, мы не раз спотыкались о тела. Укрытий для раненых нет, переправлять на правый берег удавалось немногих. А немцы били и били. Не жалея мин, не экономя пуль, снарядов…
Я слушал Плешакова, а думал совсем о другом. Трудно объяснимая ассоциация.
Году примерно в двадцать восьмом мне пришлось служить в Одессе. Был тогда молодым командиром батареи и молодым супругом. Жена никак не могла взять в толк, почему в выходной день я обязательно старался прийти домой к десяти часам вечера. Мог не досмотреть кинофильм, спектакль, оставить веселую компанию.
К десяти я обычно садился на диван и брал в руки книгу. Через несколько минут в квартире начинали раздаваться звонки. Я открывал дверь, задерживался ненадолго в коридоре, потом опять садился на диван. Жена, конечно, знала, кто звонит в наш звонок и для чего я выхожу в прихожую. Но понять меня не могла.
А все было необыкновенно просто. В выходной день увольнительные красноармейцам давались до одиннадцати часов. Но не каждый успевал к этому времени закончить свои дела. Когда запыхавшийся красноармеец, перепрыгивая через две ступеньки, взбегал на четвертый этаж, я знал, что внизу, в подъезде, его ждала одесситка, всего лишь на год или на два моложе моей жены. И горячая просьба отсрочить увольнительную на пятнадцать-двадцать минут исходила не от одного только красноармейца, умоляюще глядевшего на меня.
Мне было по душе своей властью продлевать, хоть на четверть часа, вымечтанные за неделю встречи на Дерибасовской или Приморской. Надо думать, стриженые парни из моей батареи знали эту слабость своего командира.
И вот такие же стриженые парни девятнадцати-двадцати лет от роду замерли сейчас в неестественных позах среди мятой ржи, в воронках и мелких окопчиках. А где-нибудь в Одессе, в Киеве, в Москве, в Свердловске их все еще ждут, надеются на встречу с ними…