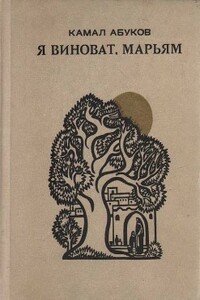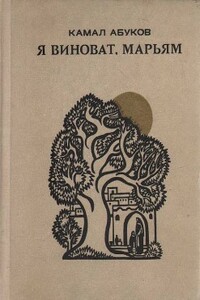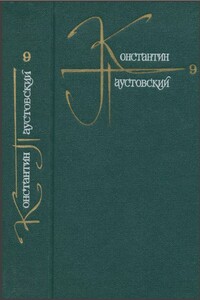Под брезентовым небом | страница 24
— Инспектор! — продолжал сокрушаться Владимир Евсеевич. — Это же служебное понятие, не больше. Скучное слово. Ни звучности в нем, ни красоты!
Вскоре ввели еще одну новинку: световое табло, объявляющее антракт. Тут уж Владимир Евсеевич и вовсе впал в негодование:
— Дожили! Надпись электрическая вместо живого голоса! Голосом я что угодно, как угодно могу выразить, а надпись... Она же мертвая, бездушная!
Верно, голосом своим Герцог владел виртуозно. В обыденной жизни тускловатый, на манеже голос его чудесно преображался, становился глубоким и округлым, играющим целой гаммой оттенков. Ну прямо не голос, а оперно-цирковой вокал!
Кстати сказать, злополучное табло просуществовало недолго. Дирекция сама убедилась, что программа от этого сделалась однозвучнее, суше. И опять во всю силу зазвучал великолепный голос Герцога.
Теперь о нашем знакомстве. Произошло оно в директорской ложе, где с некоторых пор я трудился ежевечерне.
Я тогда занимался на Высших курсах при Институте истории искусств, а институт, задумав изучение зрителя, почему-то в первую очередь обратил свое внимание на цирк. К работе этой привлекли группу студентов. Разумеется, я постарался попасть в их число.
Итак, каждый вечер я подымался в директорскую ложу, занимал место у барьера, раскладывал перед собой бумагу, карандаши, доставал часы, а затем настороженно ждал момента, когда зрителей впустят в зал.
Что требовалось от меня? Во-первых, отметить по часам появление первого зрителя, начало представления, длительность каждого антракта и наконец — окончание представления, уход из зала последнего зрителя. А во-вторых, и тут-то нужна была особая сноровка, я должен был по ходу представления фиксировать все реакции зрителей. Институтом была для этого разработана специальная подробнейшая шкала. Она предусматривала буквально все. Все виды аплодисментов: на выход артиста, на трюк, на поклон, на концовку номера. Все разновидности смеха: смех общий и единичный, взрывами и затяжной, обрывистый и переходящий в хохот. И еще предусматривались возгласы, кашель, шиканье, общий шум, топот ног... Словом, весь вечер я был прикован к залу.
Кабинет директора находился по соседству с ложей, и Герцог, наведываясь туда по служебным надобностям, не мог не заметить моих стараний. Иной раз он поглядывал в мою сторону, но не заговаривал. Впрочем, подобной чести я и не ожидал. Я был всего-навсего скромным студентом-учетчиком, тогда как Герцог... Он казался мне почти небожителем, пришельцем с той, с закулисной, сладостно неведомой стороны.