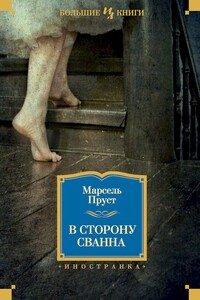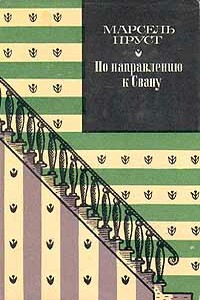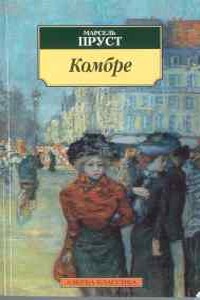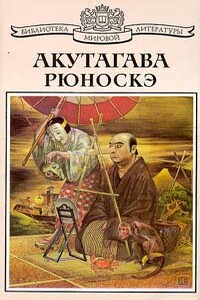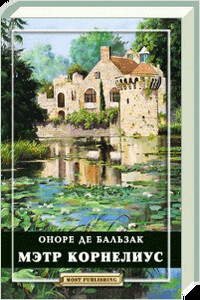Содом и Гоморра | страница 38
Наконец, к моему удовольствию Сван вошел в эту комнату, которая была очень обширна, так что сперва он меня не увидел. Удовольствие это было смешано с грустью, которой, может быть, не осознавали другие гости, но которая заключалась для них в тех особых чарах, что исходят от неожиданных и странных форм близкой смерти, — той смерти, которая, как говорит народ, уже написана на лице. И с почти невежливым изумлением, выражавшим и нескромное любопытство и жестокость, с видом спокойным и вместе с тем озабоченным (одновременно сочетавшим в себе и «suave mari magno» и «memento quia pulvis», как сказал бы Робер) все устремили взгляды на это лицо, щеки которого, словно месяц на ущербе, были до того изглоданы болезнью, что только под одним определенным углом, — наверно, тем самым, под которым Сван смотрел на себя в зеркало, — они не обрывались внезапно, подобно непрочной декорации, которая только благодаря оптической иллюзии может казаться чем-то плотным. Может быть впрочем, в эти последние дни раса с большей резкостью заставила выступить в нем физические черты, характеризующие ее, так же как и чувство нравственной солидарности с другими евреями, — солидарности, о которой Сван всю жизнь как будто забывал и которую, затронув его друг за другом, в нем пробудили смертельная болезнь, дело Дрейфуса и антисемитская пропаганда. Он, с его лицом, в котором, под влиянием болезни, исчезли целые сегменты, словно в глыбе тающего льда, от которой отваливаются целые куски, разумеется, очень изменился. Но я не мог не поражаться, насколько сильнее он изменился по отношению ко мне. Я не мог понять, как этого прекрасного, просвещенного человека, которого мне вовсе не неприятно было встретить, я когда-то мог наделять такой таинственностью, что его появление в Елисейских Полях заставляло биться мое сердце, что я стыдился подойти ближе к его пелерине с шелковой подкладкой, что у дверей квартиры, где жило подобное существо, я даже позвонить не мог без волнения и несказанного страха, который охватывал меня; все это теперь исчезло не только из его жилища, но и из его личности, и мысль о разговоре с ним могла мне быть приятна или неприятна, но ни в какой мере не затрагивала моей нервной системы.
И кроме того — как он изменился с тех пор, как я его встретил нынче днем — всего несколько часов тому назад, — в кабинете герцога Германтского. В самом ли деле произошла у него сцена с принцем, расстроившая его? В этом предположении не было необходимости. Незначительнейшие усилия, которых требуют от тяжелобольного, становятся для него источником крайнего переутомления. Стоит лишь ему, уже усталому, попасть куда-нибудь на вечер, где жарко, и вот лицо его искажается и синеет, как это менее чем за один день случается с чрезмерно спелой грушей или молоком, готовым свернуться. К тому же волосы Свана местами поседели и, как говорила г-жа де Германт, нуждались в услугах скорняка, казались пропитанными — и притом неудачно пропитанными — камфорой. Я собирался перейти на другой конец курительной и заговорить со Сваном, как вдруг, к несчастью, чья-то рука опустилась мне на плечо.