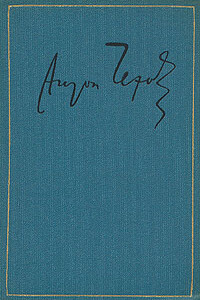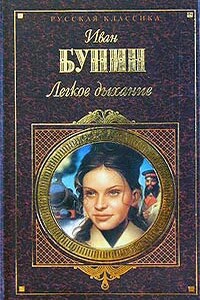Колония Ланфиер | страница 16
– Речь волка, – сказал каторжник. – Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память – выгодная струна. Другие – как бы вам сказать – туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этих я стригу мирно, – ну, пустяки, – хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие невежи – те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри…
Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и щурились.
– Лодка! – вскричал он. – Откуда лодка?
Горн посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколотившимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Горн сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.
Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чащу. Три пули Горна защелкали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрещавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.
В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную темноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.
Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкроившая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое сочетание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.