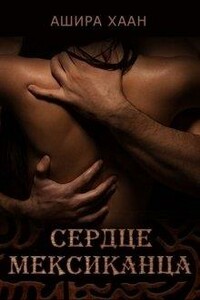Лолиты | страница 21
А вот еще любопытная картинка тех же времен.
Мы стоим в коридоре своего института, ждем занятия. Марина, девочка из параллельной группы, читает Мисиму. Она умненькая, правильная и хорошая. Но она живая. И потому она читает Мисиму. На лице ее какая-то уважительная серьезность проникновения туда, где сама она никогда не бывала. Мне нравится, что она читает Мисиму. Я говорю об этом своему приятелю-одногруппнику Сереге.
— А о чем он писал? — спрашивает Серега.
— О том, что принято называть извращениями. О «неправильном» вожделении, о жизни, о смерти, о силе красоты. О кресте — или, может быть, об особом знаке, который несет от рождения такой человек.
— Какой человек? — повышает голос Серега. — Извращенец, что ли? И он всё это описывает? И смакует небось?
— Описывает — пожалуй. Насчет смакует — не знаю, — спокойно отвечаю я. — Скорее, он говорит об этом как о чем-то данном ему с рождения независимо от его воли, о том, с чем он вынужден жить.
— Но ведь это же маразм!
— Кому маразм, а кому и оргазм.
— Но ведь молчать же об этом надо в тряпочку! — взрывается мой Серега. — Как же можно — гадость такую в обществе разводить?! Это же фашизм!
Он прекрасен. Нет-нет, я его не хочу. Я ведь уже говорил, что специализируюсь в основном на маленьких мальчиках. А Серега даже постарше меня. Я говорю: он прекрасен в своем гневе. Я смотрю на него и весело хохочу. Он застывает. Половина его лица в тени, половина — на свету. Я слеплю скульптуру. Я поставлю этот бюстик у себя в кабинете, на полке рядом с Мисимой.
10
Я ступал своими сандалиями по твердому, чистому и сухому асфальту и думал о том, как все мы — птицы, звери, растения, насекомые, облака, люди — все мы не разлетаемся в космос от бешеного вращения Земли, как все-таки притягивает она нас, держит возле себя, не отдавая бездонному космосу. В черном и теплом воздухе проступали первые звезды. Я вспоминал, как думал о них тогда, в автобусе, как смотрел на них каждый раз, как мне было плохо и одиноко. Мне пришли на память слова нашего лектора по естествознанию: «Земля и жизнь на ней — это плевок на асфальте, это плесень в углу комнаты. По масштабу. Но по значению это, быть может, попытка вселенной понять себя». Я думал о бесконечности замкнутой в себя вселенной, о крохотности нашего шарика — и о космическом масштабе страстей, которые на нем постоянно бушуют. Человек по размеру — даже не плевок, а одна молекула этого плевка на асфальте — по сравнению со вселенной. Но эмоций и внутренней энергии его хватило бы на уничтожение этой вселенной, на гигантский апокалипсис, когда он зол и разгневан, когда он ненавидит или бешено отчаялся. И на создание новой, волшебной и прекрасной, вселенной — когда он влюблен и счастлив. Одной мыслью своей — даже не плевком, не молекулой его, не атомом, а каким-нибудь электроном этого атома — по размеру — он способен объять весь восхитительно и чудовищно огромный космос, вжиться в страшный межзвездный холод и расплавиться и вскипеть в безудержном жаре звезд, исчезнуть и сжаться до невидимой глазу точки в черной дыре — и лопнуть от отсутствия давления в безвоздушном пространстве, как космонавт без скафандра. Одна мысль его, одно чувство может быть больше, чем всё мироздание.