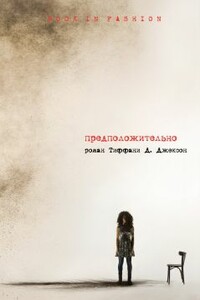Долгие беседы в ожидании счастливой смерти | страница 24
й отправил свой фельетон в Каунас, в известную еврейскую газету «Идише штиме». Она расходилась не только по Литве — по всей Европе.
Он набрался терпения. Стал ждать. Неожиданно для него ждать пришлось совсем недолго. Нет, письма из редакции не было. В первую же субботу, развернув, как всегда сдвоенный в этот день, номер газеты, й увидел свой фельетон.
— Редакция не изменила в моем тексте ни слова.
Городок гудел от пересудов. Действующих лиц узнали сразу, хотя их имена в фельетоне были не названы. Все гадали: кто автор? й подписался псевдонимом. Но разглядеть «бытописателя нравов» в гимназисте не смог никто.
Он стойко хранил свою тайну. Он жил уже будущими публикациями. Не сомневался: теперь, после шумного и успешного дебюта, станет одним из ведущих авторов газеты.
Конечно, й ошибся. Дальше все у него было, как у других. Как обычно: лавров мало — в основном тернии.
— Послав в редакцию свой второй рассказ, я получил ответ от самого Рубинштейна — знаменитого еврейского журналиста и редактора.
В письме было несколько фраз: «Печатать рассказ нельзя. Он еще сырой. Все же очевидно: у автора — острый взгляд».
й был в отчаянии. Но бросить писать уже не мог.
— Только спустя много лет я понял: Рубинштейн тогда не просто снисходительно похвалил меня — он в меня поверил.
Дебют й оказался удачным. Потому что он начал точно. С того, что потом волновало й всю жизнь. Да, с «разгадки тайны». Его рассказы и повести, опубликованные перед Второй мировой войной в еврейских газетах, журналах, альманахах, — это в основном психологические портреты «маленького человека». Они — о «тайне», с которой мы рождаемся и потом уносим за собой в могилу.
Кстати. В том, самом первом фельетоне й, звучит уже главная тема его творчества последних лет. Любовь на фоне смерти, отношения евреев и литовцев…
Между прочим
«Когда я попал в Шестнадцатую литовскую дивизию, она была еврейской едва ли не наполовину. А, может, больше?
В строю пели песни на идиш. И это была не какая-то самодеятельная инициатива — приказ командира: «Давай еврейскую песню!» Между прочим, песни на идиш подтягивали и литовцы.
Верующие евреи? А как же! Были. По утрам они молились. Хотя потом все равно ели из общего котла — не соблюдали принцип кошерности пищи.
В землянках висели стенгазеты на идиш. А как же!
К концу войны евреев стало гораздо меньше. Лучше сказать: совсем мало. Погибли!
Говорю я это, конечно, не ради спора с антисемитами: мол, воевали мы не под Ташкентом.