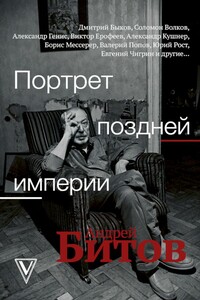Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование | страница 5
И все же в ивановской поэзии господствуют не политика, не историософия, а неокончательные, перетекающие из одного состояния в другое, ощущения. Философия, соответствующая «петербургскому» представлению о неполноте земного человеческого бытия, господствующему переживанию людей равно символистской и постсимволистской культуры. Для Георгия Иванова в этой неполноте и щемящая прелесть («Потеряв даже в прошлое веру, / Став ни это, мой друг, и ни то, — / Уплываем теперь на Цитеру / В синеватом сияньи Ватто…), и знак беды («Полужизнь, полуусталость — / Это все, что мне осталось»), и то и другое разом: «Синеватое облако / (Холодок у виска) / Синеватое облако / И еще облака…»
В метафизическом осмыслении жизни Георгий Иванов следует проторенным сквозь «бурелом русских бед» путем, не им открытым, зато им сполна и глубоко пережитым. Это путь Лермонтова, Тютчева, Блока, знавших, что такое стих, «облитый горечью и злостью», но знавших и что такое «странная» к своей отчизне любовь.
Насчет «своей страны» и ее «роз» Георгий Иванов справедливо усомнился. Но был уверен, что его «Розы» будут доставлены в нее — и хороши и свежи:
Глава I
ЗАКАТ НАД ПЕТЕРБУРГОМ
(1894-1922)
1
Романтический миф, особенно значимый для поколения Георгия Иванова, — это миф о том, что оно последнее, закатное поколение уходящей русской культуры. Именно предчувствуя и свидетельствуя о конце, оно жаждало всяческих начал. Его жизнестроительство все сплошь выросло из эсхатологических переживаний, и его культура осуществилась как своего рода «вариация от темы конца». Подобного рода вариацией звучала, по выражению Ю. Н. Тынянова, венчающая эту культуру блоковская поэма «Двенадцать».
Это и на самом деле было свидетельство о конце — того, что мы называем «Петербургским периодом русской истории».
Иначе и определенней говоря, это был декаданс.
Но декаданс замечательно бравурный, с чертами «бури и натиска». Он лелеял в себе образ Возрождения и в самый момент падения обретал крылья. «Опустись же. Я мог бы сказать — взвейся. Это одно и то же», — ставит Георгий Иванов эпиграф из Гете к «Распаду атома».
В подводящей под эпохой черту «Переписке из двух углов» Михаила Гершензона и Вячеслава Иванова последний спрашивает и отвечает: «Что такое decadence? Чувство тончайшей органической связи с монументальным преданием былой высокой культуры вместе с тягостно-горделивым сознанием, что мы последние в ее ряду».