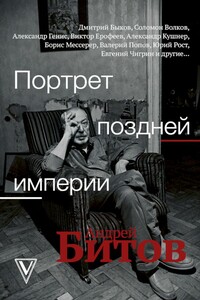Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование | страница 14
Тогдашняя критика отозвалась на сборник адекватно его достоинствам: «Небольшой мир, раскрываемый в этой книге, — писал Михаил Лозинский, — только спутник старшей планеты — поэзии Кузмина. <…> Умение по-новому сопоставить и оживить уже привычные образы, способность к скульптурно-красочной передаче зрительных восприятий, все эти качества — верное оружие, на которое можно положиться. Хочется верить, что Георгий Иванов не посвятит его пышной забаве турниров, а найдет в себе решимость поднять его для завоеваний».
В «Отплытьи на о. Цитеру» Георгий Иванов страшится обнаружить свою детскость, неопытность, стремится писать стихи как взрослый, потихоньку списывая с чужих полотен. Все-таки в 1911 году он избыточно юн. И все его «шкуры тигровые» вперемежку с «дозорными скелетами», качающимися на мачтах, никак не в состоянии скрыть этого от читателя — при всем прилежном «мастерстве» автора.
Поразительно, что даже по этим «стекляшкам», как отозвался о своих ранних стихах сам автор, Гумилев распознал у него «безусловный вкус». Так же, впрочем, как и «какую-то грациозную «глуповатость» в той мере, в какой ее требовал Пушкин». Определение было бы более точным без упоминания имени Пушкина, но, видимо, трудно иначе написать о «глуповатости» юноши-поэта, не оскорбив пробудившееся дарование.
Особенно сегодня забавно представить автора «Распада атома» в образе мечтательного пастушка, проводящего жизнь в буколических удовольствиях:
(«Мечтательный пастух»)
Нежный юноша, по ночам пасущий стада среди «платанами обрамленных» прудов, в которые «луна роняет янтари», выуженные в чужих стихах, увлекся нарочитой северянинской грациозностью, равно как и томной расслабленностью своего кумира — Михаила Кузмина, со всем отроческим безрассудством. И слава богу. Он уловил в этой сладковатой атмосфере какой-то лад, близкую ему по духу мелодию. У отвергнутого позже Городецкого в том числе.
Городецкий занял воображение Георгия Иванова раньше других новых поэтов начала века, еще в кадетском корпусе.
«Туманное октябрьское утро. На деревьях иней. <…> После постели и утреннего завтрака — чай, булка, ролик масла – в бушлатах на дворе неуютно, и шея невольно уходит под стоячий воротник с пришитой к нему внутри черной тряпочкой, заменяющей галстук. Руки засунуты в карманы, благо офицер–воспитатель где-то далеко <…>. Мы недалеко от правых футбольных ворот. Ходим, пересекая плац, параллельно воротам. Жорж смотрит на меня «маленького» с высоты своего роста – ближе к правому флангу — и снисходительно роняет, картавя и пришептывая, непонятные, но внушающие почтение и „священный трепет" слова-заклинания: