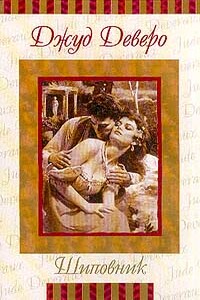В оковах страсти | страница 56
Он остановил свою лошадь на просеке и поджидал меня. Высокомерное выражение его лица вновь вызвало у меня злость.
— Как ты вообще осмелился обвинять меня? — в гневе выпалила я. — Кто должен был драться? Когда я узнала об этом, ни один человек не заметил, что люди из Зассенберга в Хаймбахе. Вместо того…
Ганс не дослушал до конца мою речь, а, с силой пришпорив свою лошадь, исчез за деревьями. Ветви, которые он обычно придерживал или срезал, били меня по лицу, в то время как я скакала вслед за ним. Колючки царапали мне руки, а конь противился моему желанию идти быстрее, так как не привык к прогулкам без рыжего мерина моего конюха. Я в бессилии отпустила поводья.
Лишь только вдали показался замок, Ганс вновь оказался на своей лошади рядом со мной. Когда рядом появлялись люди, он становился очень осторожен. Он совсем не хотел быть наказанным за небрежность.
Наши лошади шли шагом. Потихоньку, чтобы Ганс не видел, я отламывала по кусочку от причины нашего раздора — знаменитого медового пирога, испеченного пекарем Йозефом. Раньше он жил в одной из наших деревень, и Эмилия пристрастилась к его выпечке. Но однажды отцу перестал нравиться длинный нос пекаря, и он недолго думая прогнал беднягу из графства. Пекарь сбежал со своей семьей в Хаймбах под защиту нашего соседа и заклятого врага отца, графа Клеменса фон Хаймбаха. За последнее время отношения между графами ухудшились, и никто не соглашался поехать за пирогом для больной Эмилии. Мне пришлось под предлогом охотничьей прогулки поехать в лес и только там объясниться со своим провожатым об истинной цели поездки. Ганс был вне себя от возмущения. К счастью, большую часть его тирад я не понимала — насколько они лестны, красноречиво говорили его жесты, от которых шарахались даже лошади. Ему удалось основательно испортить всем нам этот весенний день.
Я мельком взглянула на него со стороны. Лицо его все еще было бледным и казалось непроницаемым. Быть может, его мысли, как и мои, были до сих пор заняты произошедшим?
По прибытии в Хаймбах я оставила Ганса с лошадьми в доме одного трактирщика, чтобы самой пойти за пирогом. Уже это вызвало его несогласие, он крепко ухватился за мою накидку и спросил, нежели я намерена отправиться туда в мужской одежде… Я просто вырвалась и ушла. Его плохое настроение действовало мне на нервы.
Был ярмарочный день, и в город пришло много народа, местные и чужие, купцы, крестьяне… Попрошайки, фокусники, жонглеры толклись у ярмарочных рядов. Несколько прокаженных топтались у церкви в надежде на богатые подаяния. Но большинство лишь наблюдали за ними со смешанным чувством отвращения, страха и сострадания. С прилавков то с одной, то с другой стороны в тряпичные мешки падали то кусок хлеба, то яблоко, и прокаженные благодарили за милостыню, бормоча молитву, прежде чем поковылять дальше. Меня охватило любопытство, и я заглянула под лохмотья. Говорили, что у них гниют и даже отваливаются конечности и другие части тела, потому что они много грешили. Рассказывали о провалившихся носах и страшных дырах на лице, через которые виден мозг несчастного. Когда они проходили мимо меня по порталу, я достала масляный крендель, купленный в одном из торговых рядов, и протянула его больному человеку высокого роста, подволакивающему ногу. Но тут из порванной в клочья одежды высунулась рука, обмотанная грязным тряпьем, из которого виднелись лишь три пальца, и схватила крендель, умудрившись даже не коснуться меня. Пока другие проходили, громыхая при ходьбе и распевая псалмы, высокий человек остановился и поднял голову. Лохмотья его капюшона позволяли увидеть лишь его правый глаз. Голубой и незамутненный, словно небо, он, казалось, испытывал триумф, несмотря на грязь и болезнь.