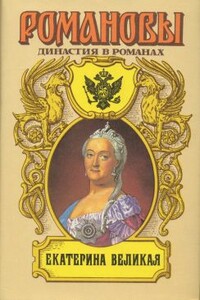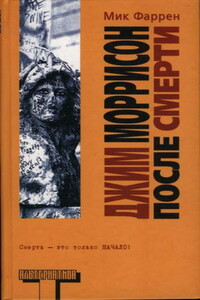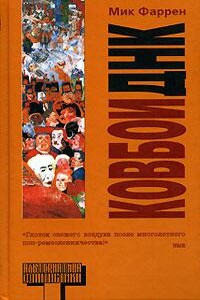За чертополохом | страница 51
Мальчики, бойко отбивая ногу по пыльной дороге, дружно пели звонкими голосами:
— Вот оно, — с брезгливым отвращением проговорил Дятлов, — насаждение милитаризма проклятым царизмом. Надругательством над чистой детской душой, хрустальной и гибкой, как воск, воспринимающей формы, веет на меня от этой дьявольской царской затеи. Берегитесь, народы Европы!
Он не договорил: дверь в сени открылась, и в горницу вошел седой высокий старик.
XXI
Старик был одет в чистую, белую с горошинами, рубаху, черные суконные шаровары, высокие сапоги и тонкого черного сукна, раскрытый на груди, кафтан. Благообразная широкая белая борода его была расчесана и волнилась, длинные, ниже ушей, волосы были тщательно разобраны пробором на две стороны и волнистыми прядями спускались с ровного белого черепа. Темный бронзовый загар покрывал морщинистое лицо, хитро смотрели узкие, блестящие, серые глаза. Он долго крестился и клал поклоны перед образом, отвесил общий поклон и сказал приветливо:
— Бог принес, Бог принес, государи мои. Садитесь, гостями будете. Гость от Бога. Всюду и везде Бог.
Сели… Молчали.
Первый заговорил Бакланов.
— Дедушка, — сказал он, — расскажите нам, как спаслась Россия?
Старик метнул острым взглядом в глаза Бакланову, поднял косматые темно-серые брови и сказал отрывисто:
— Покаянием всенародным… Чудом милосердия Божия… — и замолчал.
— Вы были свидетелем этого? — спросил Бакланов.
— Самовидцем был, прости Господи, — вздыхая, сказал старик.
— Как же это было? Может, расскажете нам? Мы русские люди, только в Неметчине родились, а Россию мы не забыли.
— Нельзя забыть Россию. Простил Господь милостивый Россию, — сказал старик и опять замолчал.
Хмурились седые брови, шевелились усы, точно про себя шептал что-то старый дед.
— Вы кем тогда были? — спросил Дятлов.
— В Красной армии служил. Убежденный коммунист, вор и грабитель я был, — вот он, кто я, — сказал неожиданно старик и сейчас же плавно повел свой рассказ.
— Был я, государи мои, силен, молод, ловок и красив. Двадцатая весна мне шла, и не было парня ловчее меня. От Бога я отрекся, Россию продал, красную звезду на шапку нацепил и пошел с товарищами грабить и терзать правого и виноватого. С германского фронта, от врага родины из-под Риги я бежал, а супротив своих братьев-казаков, против детей, гимназистов, отчаянно дрался. Был я, государи мои, богат. В ранце солдатском не сухари и патроны у меня были, а камни самоцветные, со святых икон содратые, кольца женские и перстни, серьги, из ушей окровавленных вырванные. Все мы такие были тогда. Ели хорошо, пили важно, спали сладко. Штык да ручная граната нам все добывали. Был великий голод по всей Руси. Народ тысячами умирал, хоронить не поспевали, дух нехороший над землей стоял, со всего света русским людям, как нищим, хлеба собирали, а мы нападали на поезда с хлебом, грабили их и жрали, как свиньи. Вино из посевного зерна гнали и пьянствовали вовсю. И настало, государи мои, такое время, что перестали нам хлеба посылать из-за границы и своего не стало. Ни ружьем, ни золотом ничего не укупишь. Отощали мы. Даже у комиссаров ничего не стало. Озверел народ. Пошли избиения и погромы повсеместные. Однако справилась в ту пору как-то наша власть. Рассказывали: заграница ей помогла. Из Ермании, из Англии и Франции прислали денег, поддержали ее, помогли хлеб скупить: словом, на некоторое время обернулись. Стало как-то можно жить.