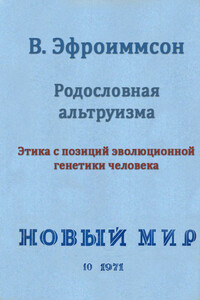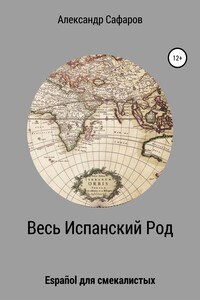Генетика этики и эстетики | страница 17
История почти всех финансовых и многих политических деятелей — это прежде всего и больше всего история обмана, вероломства, хищничества, мошенничества, коварства, предательства, жестокости, сначала «без перчаток», потом «в перчатках». Недаром слово «тиран», означавшее в начале просто захватчика власти и лишенное этической интонации, стало затем синонимом коварства, зверства.
Но социальный подъем тирана тысячелетиями означал одновременно ломку всех параметров, по которым ранее шел социальный отбор. Основным условием существования становились покорность и конформность. Быстро создавалась новая иерархия, подобранная по признаку верноподданической антисоциальности, маскируемой высокой целью. При этом происходила массовая переоценка представлений о человеке: видя высящихся на командных постах негодяев, а главное, веря в ложные, мнимые цели, массы сменяли свои нормальные этические критерии на внушаемые им сверху, оправдываемые высокой задачей, на такие, при которых только и возможно дальнейшее существование. Происходило удивительное явление: чтобы уцелеть под властью тирана, было недостаточно оказывать ему внешний почет и повиновение; внутренняя антипатия была бы быстро разгадана. Надо было и ее изживать, внушать самому себе, своей семье, всем родным искреннюю любовь к угнетателю, иначе всем приходилось плохо. Поэтому никогда ни один законный правитель, унаследовавший трон, или избранный всенародно президент не пользовались, кажется, и малой долей той народной любви, как жесточайшие из тиранов — Нерон, Домициан, Атилла, Чингизхан, Тамерлан, Филипп II. Надолго ли? Во всяком случае, на все время своего владычества .
Философия и мудрость не могут удовлетворить нас: «Мелкое удовлетворение, какое дает неограниченная власть, покупается настолько дорогой ценой, что человек благомыслящий не может ей завидовать». «Принцип государства деспотического беспрерывно разлагается, потому что он порочен по своей природе. Другие государства гибнут вследствие особенных обстоятельств, нарушающих их принципы; это же погибнет вследствие своего внутреннего порока». Однако этот процесс гибели изнурительно длителен.
Наклонности человека, его социальность, асоциальность или антисоциальность в очень большой мере определяются теми ценностными критериями, теми идеалами и задачами, которые в нем реализовались под влиянием воспринятого в детском и подростковом возрасте. Именно тогда решается альтернатива «я за себя, для себя» или «я для других, за других». Этой альтернативе можно в дальнейшем изменять в частных случаях, она далеко не всеобъемлюща, но является жизнеопределяющей.