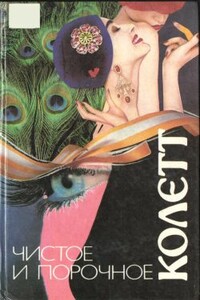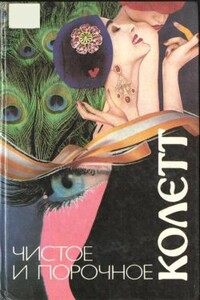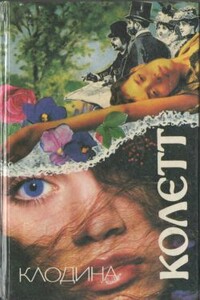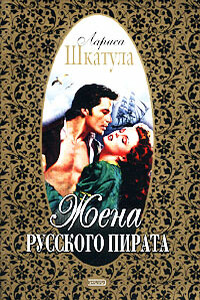Рождение дня | страница 37
Момент, который её всю осветил, прошёл у неё быстро, и я теперь смотрела, как мои воспоминания съёживаются, гаснут, чернеют…
– Если бы, мадам, вы сказали мне хотя бы одно слово, только одно слово, хотя бы чтобы выставить меня за дверь… Я не имею ничего против вас, мадам, я вам клянусь…
– Но ведь и я, Элен, ничего не имею против тебя…
И вот тебе пожалуйста, слёзы. Ах уж эти мне большие девы-лошади, которые без колебания отправляются одни в дорогу, водят машину, курят грубый табак и почём зря рычат на родителей.
– Ну, Элен, Элен…
Ещё и сейчас, описывая это, я испытываю страшное отвращение к тому, что сегодня – полночь ещё не наступила – произошло. Только теперь я отваживаюсь назвать причину своего смущения, своей краски, той неловкости, с которой я произнесла несколько простых слов: она называется робостью. Неужели можно ощутить её вновь, отказавшись от любви и от практики любви? Значит, это так трудно – произносить то, что в результате я всё-таки сказала этой залитой слезами просительнице: «Да нет же, милая, вы вообразили просто большую глупость… Никто здесь уже больше ни у кого ничего не берёт… Я вам охотно прощаю, и если я могу вам помочь…»
Славная девушка об этом даже и не мечтала. Она мне говорила: «Спасибо, спасибо», запинающимися губами славила мою «доброту», увлажняя мне руки своими поцелуями… «Не говорите мне «вы», мадам, не говорите мне "вы"»… Когда я открыла ей дверь, на пороге её всю обняло спустившееся солнце: её белое помятое платье, её опухшие глаза, её самоё, чуть-чуть смеющуюся, вспотевшую, снова попудрившуюся, может быть, трогательную… Однако, стоя лицом к лицу с этой юной полной смятения Элен, я пребывала во власти своей злополучной робости. Смятение не является робостью. Напротив, это своего рода бесцеремонность, сладострастие самоуничтожения…
Этот день мой не стал для меня приятным днём. Я надеюсь, у меня ещё есть впереди много-много дней, но я уже не хочу тратить их понапрасну. Несвоевременная робость, слегка увядшая и горькая, как всё то, что остаётся нерешённым, двусмысленным, бесполезным… Ни украшение, ни хлеб насущный…
Слабый, молчаливый сирокко прогуливается из одного конца комнаты в другой. Он так же мало способен освежить комнату, как какая-нибудь сидящая в клетке сова. Как только я расстанусь с этими страницами цвета светлого дня в ночи, я пойду спать во двор, на матрасе из рафии. Над головой тех, кто спит под открытым небом, вращается весь небосвод, и когда, проснувшись раз-другой до рассвета, я обнаруживаю бег крупных звёзд, не оказавшихся на прежнем месте, то испытываю лёгкое головокружение… Иногда конец ночи столь холоден, что роса в три часа прокладывает себе на листьях дорожку из слёз, а длинная шерсть ангорского одеяла серебрится как луг… Робость, у меня был приступ робости. А всего-то и нужно было – поговорить о любви, снять с себя подозрение… Ведь боязнь смешного – даже моя собственная – имеет пределы. Можете ли вы меня представить кричащей, с румянцем невинности на лице, что Вьяль…