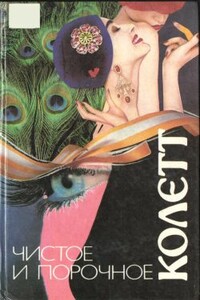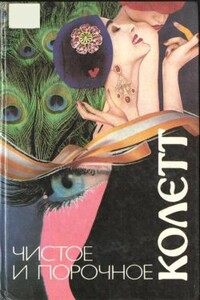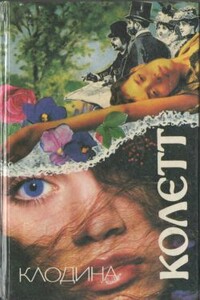Рождение дня | страница 32
Подобный плод в такую пору моей жизни, когда от любого удовольствия я принимаю лишь цветок, – причём из лучших лучший, коль скоро не требую ничего больше, – плод внесезонный, созреванию которого способствовали как моя проворная фамильярность, – «Эй, молодой человек, угостите меня дюжиной устриц, прямо вот здесь, не садясь, как в Марселе… Вьяль, завтра встаём в шесть и идём на рынок за розами: особое задание!» – так и моя известность, значительно искажающая звуки…
А что, если теперь я стану менее мягкой и к себе самой, и к другим до самого конца этого прекрасного провансальского сезона, разукрашенного бразильской геранью, белыми платьями, надрезанными арбузами, обнажающими подобно треснувшим планетам своё раскалённое сердце? Однако ничто не угрожало моему счастливому лету, наполненному голубой солью и хрусталём, моему лету с раскрытыми окнами, с хлопающими дверями, моему лету с ожерельями из молодого белого, как жасмин, чеснока…
Любовная привязанность Вьяля, не менее любовная досада малышки Клеман, и я, оказавшаяся, помимо собственной воли, между этими двумя излучениями. Я их вопрошаю и комментирую с помощью чернильных знаков, стремительным почерком. С риском попасть в смешное положение… Именно так, здесь есть нечто смешное. Стоит ли, однако, об этом вспоминать, коль скоро через мгновение я всё равно об этом забуду. Ведь не у тебя же, моя самая дорогая, – где ты сейчас бдишь в этот час твоего постоянного бдения? – могла бы я научиться колебаниям в момент, когда нужно помочь, поддержать рукой и плечом уставшее лимонное дерево, подобрать в подол платья испачканную в грязи собаку, приласкать и приютить дрожащего, недружелюбного, не нами созданного ребёнка или возложить на беспристрастные руки груз запинающейся любви, которая склонилась над самыми роковыми безднами… Прости меня, если я перевожу в наш общий пассив какой-то совершенно для тебя неприемлемый беспорядок. «В моём возрасте есть только одна добродетель: никому не делать зла». Ведь это же твои слова. У меня, моя самая дорогая, нога не так легка, как у тебя, и мне доступны не все дороги. Припоминаю, что в дождливые дни на твоей обуви почти не было грязи. И ещё я вижу, как эта лёгкая нога обходит, стараясь не задеть, ужонка, в своё удовольствие растянувшегося на тёплой тропинке. Я лишена твоей слепой и восторженной безмятежности, с которой ты на ощупь узнавала «добро» и «зло», равно как и твоего искусства по собственному коду давать новые имена старым отравленным добродетелям и жалким грехам, которые вот уже много веков ожидают своей доли рая. А в добродетели ты бежала прочь от её зловонной неукоснительности. Как я люблю твоё письмо: «Полдник был организован в честь очень некрасивых женщин. Уж не их ли уродство чествовали? Они принесли своё рукоделие и работали, работали с усердием, которое мне внушает ужас. Почему мне всегда кажется, что они делают что-то дурное?» И ты с отвращением различала запах этой благотворительности, способной не на одно преступление…