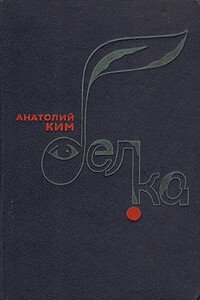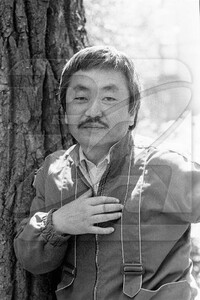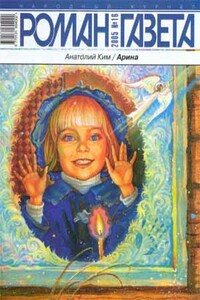Печать тайны | страница 8
Утверждая изначальное, потенциальное достоинство каждой человеческой личности, художественная мысль А. Кима на следующем витке выдвигает другой существенный тезис — преодоление солипсизма, «обособления», как сказал бы Достоевский.
Сотворив жизнь-картину, человек-художник должен явить се людям. Превращение Я в Мы — одно из самых загадочных преображений, предстающее в повестях А. Кима пока скорее как будущий идеал, а не осуществленный, на уровне заповеди или императива. «Жизнь одного человека в общей книге человечества — всего лишь одна строчка. А может быть, полстрочки, в конце стоит многоточие»… — настаивает магистр философии Отто Мейснер.
В «Луковом поле» ему вторит авторское повествование: «в единственном, абсолютно единственном числе мы не можем себя мыслить, кто бы мы ни были: великаны, незримые духи ночных пространств, говорящие люди или молчаливые камыши— все Мы, жаждущие только одного: исполнить свое предназначение в этом мире». Именно в этой повести появляется новый н очень важный для А. Кима «герой» — МЫ с большой буквы, не единожды встречающийся в более поздних его произведениях, скажем в «Лотосе», где мы соотносимы со «сладостными до слез голосами Хора Жизни».. В «Лотосе» раскрывается смысл этого понятия: «смутный образ всеобщего бессмертия, символ которого Лохов обозначил понятием Мы, явился перед ним».
И снова мысль возвращается к основному сюжетному двигателю кимовских повестей — превращению-преображению: «Перевоплощение травинки в гусеницу, представшее глазам шестилетнего ребенка, и закон преображения, распознанный взрослым разумом, почти совмещаются в одно целое»… И, согласно этому же закону, «мое Я перешло в МЫ, чем было достигнуто неизменное и глубокое спокойствие души, жаждавшей бессмертия» («Лотос»). И, задавая миру «самый яростный, самый отчаянный вопрос кто МЫ?», — писатель отвечает иа него: «воистину существует нечто бессмертное и надмирное-человеческое духовное МЫ, звучащей частицей которого является каждый из нас» («Белка»).
Но у НАС (включая и Нас с Вами, читатель, в той мере, в какой и мы прпчастны духовности), есть враги пострашнее, чем «пожарники». Есть не только без-духовность, но и анти-духовность.
Есть те, для кого «все дела человеческие крутятся лишь вокруг куска пищи» («Соловьиное эхо»). Есть маленький демон из сказочки бабушки Ольги в той же повести — «крошечный пузатый чертик», незаметно вырастающий в огромного и страшного демона. И есть воплощение зла — грабители, память об ужасе от нападения которых, пережитом шестилетним мальчиком, как детская травма преследует сознание взрослого человека («Соловьиное эхо»). Есть страшный заговор зверей, стремящихся проникнуть «в глубь человека, в недра его души и тела, куда закладываются паразитные яйца будушего вырождения». Вырождаясь, «зверея», человек лишается своей духовной сущности, лишается «фортуны ли, смелости и стойкости, дарования ли божьего, чтобы по примеру великих прочь отшвырнуть от себя бесовье и навсегда утвердить человеческую красоту в бессмертных образах и формах».