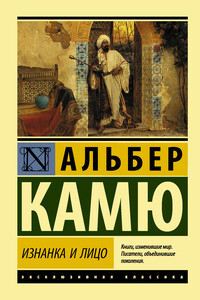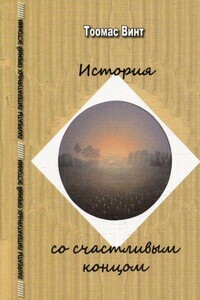Дом, в котором... | страница 64
— Ты боишься меня, Македонский? — зеленые глаза прожигают, и я сворачиваюсь черной коркой с углов, и… Да! Да! Да! Я боюсь, и что дальше? Ты не боялся бы на моем месте? «Если бы я мог быть в двух местах одновременно, в тебе и во мне, я бы не боялся. И ты не бойся. Поверь, мне ничего от тебя не нужно». Он говорил правду, но я не верил. Он приручал меня тихо и незаметно, я этого не понимал. Он заставлял меня читать и заставлял говорить с ним о книгах, он заставлял слушать музыку и говорить о ней, заставлял придумывать глупые истории и рассказывать их ему. Сначала только ему, потом другим. Он выжал из меня страх и заставил верить себе. И я был счастлив и больше не боялся его глаз. Я вообще больше ничего не боялся, хотя запрет не был снят, мне надо было помнить об этом. Но мне было слишком хорошо, я растаял от тепла, которое он дарил мне за всех, кто не додал его прежде, от их тепла, от тепла, что я получал от них и отдавал им обратно. Надо было помнить, а я забыл. Первыми начали руки — потихоньку, машинально они крали чужую боль, а я уносил ее в горячих ладонях и смывал в раковину. Она уплывала по трубам, а я стоял на дрожащих ногах, чувствуя усталость и пустоту; это было прекрасно, и — честное слово — вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал своей клятвы. Так я думал тогда. Постепенно вокруг меня вырос мир, сияющий в золоте рассветов и пламени закатов. Я вскакивал раньше всех, босой, и выбегал в коридор, чтобы не упустить самый прекрасный час, пробежать по пыли, почувствовать свое тело, свои ноги, и как они умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ, дрожа, и пел — старые гимны и песни, которым научился недавно, — распугивая тараканов, и устраивая наводнения. Это был я. Македонский, весь в веснушках, белый и тощий. Македонский — про которого никто ничего не знает. Македонский, который грызет ногти, Македонский, которого надо подкормить, Македонский у которого торчат передние зубы, которому скоро шестнадцать, у которого весь мир, у которого восемь друзей, который счастлив.
А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух, а я молчал, просто жил рядом. Хотел бы я действительно быть лишь одним из них и больше никем.
Я дарил им тайные обрывки, ошметки чудес — то, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было, вообще ничего. Это у меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не почуял мою тайну. Это было неизбежно. У них хороший нюх, не испорченный Ящиками и многолюдным наружным дурманом. А я был неосторожен. Маленький Шакал знал, что… Македонский не такой, как все. И Слепой знал. А Волк… Это было смешно и грустно. Его я опасался меньше всех, и, нарушая свое обещание, отдавал ему больше запретных чудес. Как ядовитого скорпиона, я снимал с него то жгучее, что чувствовал, когда проводил ладонью по его позвоночнику, и, пока я доносил его до раковины, оно успевало пустить в меня яд, и ладони распухали от чужой боли, но я был счастлив. Они научили меня благодарности и любви, и ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп. Сфинкс знал, что говорил в тот первый день. «Если хочешь остаться с нами, то никогда — слышишь? — никогда никаких чудес».