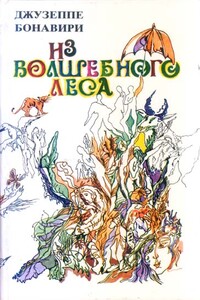Равнина в огне | страница 31
Танило слушает и плачет, и на потном его лице остаются дорожки от слез. Потом ругать себя начнет за непокорство. Наталия ему концом своей шали слезы вытрет, поднимем его вдвоем с земли и тащимся дальше, чтобы дотемна еще хоть немного пройти.
Так вот, чуть не волоком, дотащили его до Тальпы.
Последние дни мы уж и сами с Наталией из сил выбились. До того замучились, что к земле пригибать стало, будто на плечах у нас непомерная тяжесть и к ногам по гире привязано. Танило то и дело падает, мы его поднимаем, а случается, и на себе тащим. Оттого, может, так и извелись, тела на костях не осталось, еле плетемся. Люди-то рядом с нами быстро шагают, ну и мы за ними тянемся, отстать боимся.
А ночь придет — и утихнет людское половодье. В поле сбочь дороги костры горят, и вокруг огня народ собирается, обернутся лицом в сторону Тальпы, руки скрестят, глаза к небу возведут — читают вечерние молитвы. Ропот над полями стоит, и ветер его туда-сюда носит, голоса перемешивает, и уже не ропот слышится, а только одно непонятное, то ли стон, то ли мычание. Потом все затихает. Лишь в полночь другой раз долетит издали одинокая песня. Проснешься от голоса и опять закроешь глаза, но до рассвета так уж и не заснешь.
Вошли мы в Тальпу с пением славословия Богородице.
Из дому мы в середине февраля тронулись, а в Тальпу пришли — март кончался. К этому времени многие паломники назад возвращались. Отстали же мы еще и потому, что Танило вбил себе в голову: ему надо идти не как на богомолье, а как на покаяние. Увидел, что у кающихся колючие листья напаля>[5] на манер скапуляра навешаны, — и ему такой же надо. Мало того, рубашку снял и рукавами себя стреножил, чтобы еще трудней идти было. А немного погодя терновый венец на голову надел, потом глаза завязал. А когда к городу подошли, на колени опустился, руки заложил за спину и так вот, на коленях — до кости он их себе ободрал, — вошел в Тальпу, и уж сам я не знал, то ли брат это мой Танило Сантос, то ли неведомо что такое. Ведь на нем еще и повязки, а от колючек по лицу и телу черная кровь бежит, и гнилостью тяжелой от него тянет, будто от околевшей скотины.
И вот кто бы подумал. Не успели оглянуться, смотрим, он в круг протискивается, к танцорам: в пляс пустился, в руках бубен, и ногами своими босыми, почернелыми от язв, топ-топ, изо всей силы. В раж вошел, кружится, будто всю тоску, все свое горе с себя сбросить хочет или болезнь затоптать, чтоб хоть еще немного пожить ему дала.