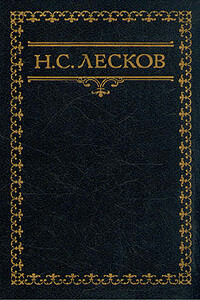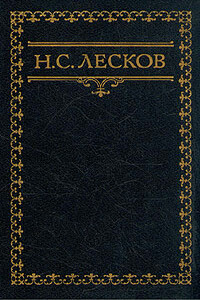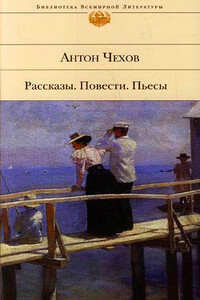В стороне от большого света | страница 15
— Я расскажу вам его, если оно хоть немного интересует вас.
— Не возбудит ли это слишком тяжелых воспоминаний?
— Самое тяжелое я пропущу, потому что, видите, все-таки неприятно смотреть на болото, в котором едва не погиб.
— Нам остается немного времени быть вместе, я боюсь, что не успею ничего узнать. Лиза и Катерина, может быть, уж ищут нас и думают, что мы заблудились.
— Нам остается еще несколько часов. Лиза не придет до тех пор, пока не будет время идти домой. Судя по солнцу теперь час четвертый, а вы должны воротиться домой только к чаю.
— Почему вы это знаете? — живо спросила я.
— Потому что я просил ее об этом.
— Вы? что же она подумает?
— Подумает, что мне хотелось поговорить с вами.
— Ах, что вы сделали? знаете ли, что она вас ненавидит?
— Да какое нам дело до ее ненависти?
— И вы сделали это тихонько от меня?
— Чтобы поймать птичку, надо всего больше стараться не спугнуть ее.
— Вы играете роль кошки, — сказала я с негодованием.
— Нет, — отвечал он тихо и нежно, — скорее роль той маленькой белой ручки, которая поласкала и отпустила малиновку, дав ей урок опытности. Пройдут годы, и, может быть, мысль ваша обратится с любовью и благодарностью к воспоминанию обо мне. Это гордая мечта с моей стороны; но я уверен, что она сбудется, потому что она так же чиста и благородна, как любовь моя к вам.
Я дружески протянула ему руку; я уважала и ценила его чувство. Вот что рассказал он мне о себе.
Я родился в двух верстах отсюда, в селе Покровском. Отец мой и теперь там священником. Это бодрый, умный старик, характера строгого и взыскательного. Семью свою он держит в руках, и нет удержи его родительскому деспотизму. Мать моя добрая, кроткая женщина. Нас у батюшки семеро: два брата и пять сестер. Старший брат мой уже восьмой год священником в одном богатом торговом селе. Я родился пятым и был такой хилый, бледный, беловолосый ребенок, тогда как сестры мои были все полные, красивые девочки, все темноволосые, черноглазые, старший брат мой такой молодец и силач, что загляденье; за то меня прозвали немцем, и это название осталось за мной и до сих пор. Оно одно довольно ясно обозначает положение мое в родной семье. Ребенок, прозванный немцем в семье приходского русского священника, должен был казаться чужим в этой семье. Никто не любил меня особенно, хотя я и не был, как говорится, в загоне, и за общим столом меня не заделяли куском пирога.
Рано начал я скучать в нашей душной, хотя просторной избе. В избе меня тянуло на воздух, на воздухе я рвался дальше. Болезненная, преждевременная мечтательность налегла на мою детскую душу безотвязным сновидением. Помню эти бесконечные зимние дни и таинственные для меня вечера. Вместе с наступлением сумерек вся семья уляжется сумерничать, то есть спать часа на три. Помню, как я, выждав, когда все заснут, садился на лавке у окна, уставя с трепетом лицо в окошко. Глазам моим представлялась картина заманчивая и страшная, как глава из романа г-жи Радклиф: кладбище и белая церковь, озаренные луной. Чтоб видеть эту картину, я дыханием оттаивал замерзшее стекло… Мне было жутко… Думы рождались и замирали в моей голове, и все становилось так смутно, и казалось, подымались с кладбища белые, прозрачные тени, и близились, и ловили меня… Но почти всегда в самую критическую минуту или просыпалась матушка, громко творя молитву, или батюшка вскрикивал: