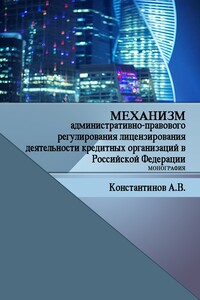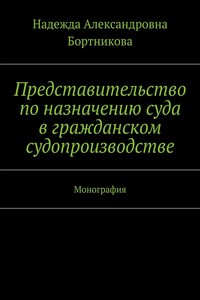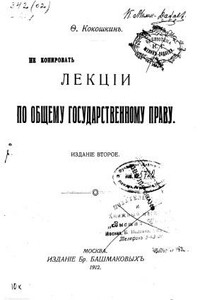Исследование о смертной казни | страница 25
Говорят, преступник, которого ведут на эшафот, считает особенною милостью самую жестокую тюрьму, самые тяжкие работы, постоянное рабство; отсюда выводят такое заключение: страх этих последних наказаний не может удерживать от совершения преступлений в такой степени, в какой смертная казнь. Во-первых, не всякий преступник чувствует подобное желание. Во-вторых, хотя бы подобное желание было и всеобщее, все-таки оно не говорит в пользу той устрашимости смертной казни, которая бы обладала свойством удерживать от преступлений. Конечно, ожидания насильственной смерти тяжелы для осужденного; по мере того как воображение работает, тяжесть эта возрастает. Медленность и методичность приготовлений, исполнение разных формальностей и предписаний, холодность исполнителей — все это доводит до высшей степени муки осужденного. Но этот страх смертной казни есть страх, ощущаемый осужденным пред совершением казни, а не преступником пред совершением преступления; это запоздалый страх, который, правда, увеличивает — и притом бесполезно — тяжесть наказания, но который все-таки бессилен удержать от совершения преступлений.
Допустим даже, что смертная казнь по своей природе есть наказание устрашительное, удерживающее от преступлений. Все-таки она в настоящее время лишена этих качеств вследствие того, что она применяется гораздо реже в действительности, чем определена в законе. Еще писатели XVIII в. заметили такое разногласие между законом и жизнью и ослабление вследствие того угрозы закона. В XIX столетии разногласие это сделалось еще резче. Пострадавшие от преступлений не хотят обвинять, когда знают, что обвинение их может повлечь смертную казнь; свидетели не хотят в таком разе свидетельствовать; присяжные часто в этом случае или отвечают: не виноват, или признают существование смягчающих обстоятельств; наконец, монархи нередко спешат давать помилование, единственно из желания избавить от смертной казни. Отсюда-то происходит огромная разница между количеством обвинений в преступлениях, влекущих смертную казнь, и количеством действительно казненных. Вследствие этого закон, грозящий смертною казнью, потерял силу и люди, которых интерес стоит на стороне наказания, боясь ненаказанности, просят иногда, во имя наказания, отмены смертной казни. Оттого-то люди, склонные к преступлению, зная, как редко закон, грозящий смертною казнью, применяется на деле, ободряемые надеждою на ненаказанность или снисхождение, совершают еще с большею дерзостью тяжкие преступления.