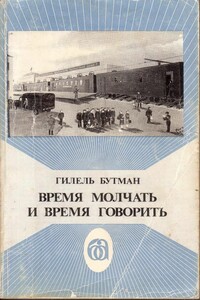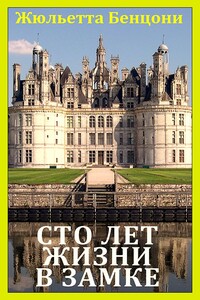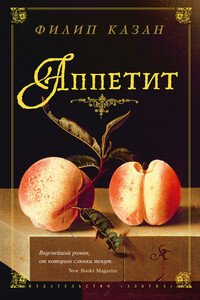Ленинград – Иерусалим с долгой пересадкой | страница 18
И пройдут многие годы, прежде чем ты научишься мыслить сам, прежде чем найдешь собственные ответы на собственные вопросы, прежде чем поймешь, чья кровь залила твой пионерский галстук.
И твой собственный Жизненный Опыт будет твоим Учителем.
Мы родились в 30-е годы, в годы, когда взрывали церкви и расстреливали людей персонально и целыми социальными группами, в годы, когда вручную строили Днепрогэс и Магнитку и в истоптанных валенках высаживались на Северный полюс. Шел великий эксперимент, ломались национальные культуры, обычаи, традиции. Национальное отступало. Наступали всякие «зации». Индустриализация. Коллективизация. Паспортизация.
Когда мы рождались, нас еще не стеснялись записывать в метриках по именам умерших дедов и бабушек, но звали так же, как и других детей в округе. Вот было смеху, когда мы, три товарища, пошли получать паспорта в 1948 году. Вдруг оказалось, что Гришка Бутман – Гиля Израилевич, Семка Дрейзнер – Соломон Гиршевич, Мишка Шмуйлович, ой, держите меня, – Меир-Янкель Исаакович, а его младший брат Фимка – вообще Хаим-Лейзер. Вместо звучного имени Григорий, которое носил пламенный Котовский, какой-то Гиля. Зато Мишке еще хуже: Меир-Янкель! Хаим-Лейзер! – Удавиться можно…
Началась и кончилась Война за независимость. Конечно, мы болели за евреев. Газеты писали о военных действиях, о том, что 600 тысяч евреев выиграли войну против арабских королей и стоявшей у них за спиной империалистической Британии. У евреев правое дело, так же, как у индонезийцев, китайцев, филиппинцев. Правда, в результате справедливой войны родилось какое-то несправедливое государство. Что поделаешь, клика Бен-Гуриона повела куда-то не туда.
Упал с проломанным черепом Соломон Михоэлс и хоронили его торжественно. Правда, потом как-то постепенно возник ярлык «известный еврейский буржуазный националист»…
Вообще вся страна оказалась битком набитой буржуазными националистами, шпионами, безродными космополитами, которые не хотели верить, что первый паровоз изобрели братья Черепановы. Они расставались со своей работой, семьями, иногда – жизнью, но упорствовали в своих заблуждениях насчет паровоза. Иногда, правда, кто-то робко намекал, что все это не совсем так. Но намекал недолго. Ибо, как говорится в детской считалочке: «А» и «Б» сидели на трубе. «А» сказало и пропало: «Б» служило в КГБ.
Мы тогда были на стыке отрочества и юности. Другие проблемы интересовали нас. Самостоятельно мыслить мы еще не научились, от жизни были изолированы школой, которая в тепличных условиях лепила из нас требуемый для государства новый тип человека: без национальности, без мыслей, без индивидуальности.