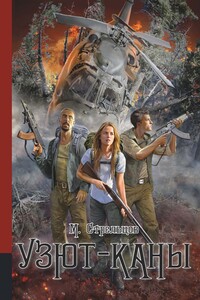Тайная история | страница 64
— Что-то ты спозаранку, — сказал я.
— Я всегда встаю рано. По утрам мне работается лучше всего.
— Чем занимаешься? Греческим? — спросил я, взглянув на книги.
Генри поставил чашку на блюдце:
— Перевожу «Потерянный рай».
— На какой язык?
— На латынь, — торжественно произнес он.
— Вот как. А зачем?
— Хочу посмотреть, что у меня выйдет. На мой взгляд, Мильтон — величайший английский поэт, я, например, ставлю его выше Шекспира, но иногда мне становится досадно, что он предпочитал писать по-английски. Конечно, он сложил немало стихов на латыни, но это было еще в студенческие годы. В «Потерянном рае» он доводит английский до пределов возможного, но я думаю, что язык без падежных окончаний в принципе не может поддержать тот структурный порядок, к торжеству которого он стремится.
Генри опустил сигарету в пепельницу. Как зачарованный я следил за поднимавшейся струйкой дыма.
— Хочешь кофе?
— Нет, спасибо.
— Надеюсь, ты спал хорошо.
— Да, очень.
— Мне здесь спится гораздо лучше, чем где бы то ни было, — сказал Генри, поправляя очки и склоняясь над словарем. Легкая сутулость плеч выдавала усталость и напряжение, которые я, ветеран многих бессонных ночей, тут же распознал. Внезапно я понял, что этот его неблагодарный труд был, скорее всего, просто средством скоротать ранние часы, сродни кроссвордам, над которыми убивают время многие жертвы бессонницы.
— Ты всегда так рано встаешь?
— Почти всегда, — ответил он, не поднимая глаз от бумаг. — Здесь очень красиво, но дело в том, что даже самые вульгарные вещи не вызывают отвращения на рассвете.
— Понимаю, о чем ты, — сказал я. Я действительно хорошо знал это чувство. Плано не казался мне невыносимым только ранним утром, когда на улицах не было ни души и сухая трава, заборы из сетки, одинокие низкорослые дубы — все было окутано мягким золотистым светом.
Генри оторвался от книг и посмотрел на меня почти с любопытством:
— Должно быть, тебе не очень нравилось там, где ты жил раньше?
Этот образчик дедукции в духе Шерлока Холмса изумил меня.
Заметив мое смущение, Генри улыбнулся.
— Не волнуйся. Ты скрываешь это очень умело. — Он снова углубился в книгу, но через пару мгновений поднял глаза. — Знаешь, наши едва ли способны понять такие вещи.
Он произнес это без злости, без сочувствия, как бы мимоходом. Я даже не уверен, что правильно интерпретировал его слова, но именно тогда я впервые почувствовал нечто, чего раньше совсем не понимал: почему все остальные так любят его. Взрослые дети (да, понимаю, оксюморон) инстинктивно тянутся к крайностям: молодой ученый — гораздо больший педант, чем его старший коллега. И я, тоже будучи молод, принимал эти высказывания Генри очень близко к сердцу. Сомневаюсь, что сам Мильтон смог бы сильнее поразить мое воображение.