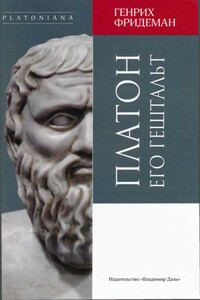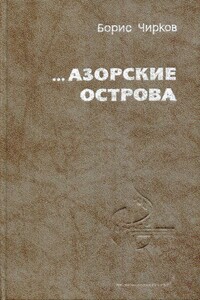Гофман | страница 6
Однако его, в отличие от других «классиков», никогда не удавалось мерить мерками одной задачи, одной миссии, одной философии, одной системы. На него навесили — то ли восхищаясь им, то ли умаляя его — ярлык: «Поэт неукорененной духовности».
И действительно: Гофман мало заботился о том, чтобы пустить корни, и над теми, кто всегда норовит укорениться, вдоволь посмеялся в своей сказке «Королевская невеста». И в «Принцессе Брамбилле» — сказке, в которой карнавальное веселье переливается через край, — написал: «Нет ничего скучней, чем, укоренившись в почве, держать ответ перед каждым взглядом, каждым словом». Так Гофман и жил, обороняясь от тирании аутентичности.
Он не был «укоренен» в семье: влияние матери и отца сказывалось слабо, а направлявшие его общественные силы проникали в него недостаточно глубоко — у него оставалась свобода действия. Он в совершенстве овладел искусством «как будто» и стал решительным противником «или — или», избегая любой исключительности, касалось ли это притязаний на него искусства, идеологии, семьи, государственной службы или политики. В свое время нелегко ему было сохранять баланс между ангажированностью и дистанцированием, ибо компромиссы тогда не допускались: философия и искусство находились под гнетом высшей правды и глубочайшей серьезности, а политика врывалась во все сферы жизни. Целое есть истинное, учит гегелевский дух времени. Поскольку «целое» стали определять политически, политика в конечном счете завладела всем человеком, — а это плохое время для разделения властей, для жизнерадостного релятивизма, для утонченного лавирования, в котором Гофман столь хорошо знал толк.
Он не был «укоренен» ни в литературе, ни в юриспруденции, ни в музыке, ни в живописи. И за это он заплатил дорогой ценой: нигде не принимали его вполне всерьез. Он компенсировал это тем, что и сам ничего не принимал вполне всерьез. По этой причине он не снискал авторитета у сильных мира сего. Гёте судил о нем точно так же, как и министр прусской полиции Шукман, считавший его «кутилой», который работает главным образом ради возможности оплачивать свое времяпрепровождение в кабаках. Злоречивый бюрократ был не столь уж и не прав: скептический фантаст не хотел лишать себя искусственного парадиза опьянения, и его знаменитая сказка «Золотой горшок» вносит пуншевую чашу в святая святых литературы.
Он не хотел «держать ответ» ни перед кем. Вопреки духу своего времени (и нашего тоже) он избегал и языка сердечных излияний, и фразеологии исправления мира. Находясь между внутренним миром и миром внешним, противостоя требованиям как задушевности, так и политики, литература у Гофмана сохраняет масштаб общественной игры — а это весьма знаменательно для людей нашего времени, которые воспринимают литературу (может быть, ложно) как терапию, как миссию или как исповедание веры.