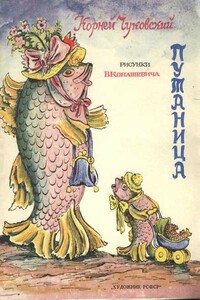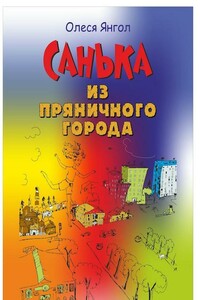Серебряный герб | страница 63
ГИМНАЗИАДА
Героическая поэма в двенадцати частях с эпилогом
И на первой странице красными чернилами в затейливой рамке:
Посвящается Рите Вадзинской
Открываю тетрадь и читаю:
А вот о нашем гимназическом „греке“, преподававшем нам древнегреческую литературу:
А вот про Зюзю Козельского, подлизу и труса:
А вот про Шестиглазого, про Финти-Монти, про Зуева… А вот про нашего латиниста Павла Ильича Кавуна…
И тут я вспоминаю, что сегодня от часу до двух у нас… — то есть нет, не у нас, а „у них“, — мой любимый латинский урок. Я отдал бы все на свете, чтобы в эту минуту встать перед всем классом у кафедры и прочитать нараспев:
и видеть, как Павел Ильич упивается вместе со мною музыкой каждого древнеримского слова и, зажмурившись, кивает мне в такт. И я впервые понимаю теперь со всей ясностью, что этому уже не бывать никогда, и чувствую такое сиротство, словно я один на земле.
К черту же все, что напоминает гимназию! Долой „Гимназиаду“! На что она мне! Я с яростью рву мою бедную рукопись на мельчайшие части, рву сосредоточенно и долго, чтобы нельзя было прочесть ни единого слова, потом спускаюсь вниз, подбегаю к большому, обмазанному дегтем мусорному ящику, над которым с густым и веселым жужжанием носится черное облако мух, и бросаю туда всю эту бумажную рвань.
На душе у меня становится легче, и я бегу задворками домой.
Едва я всхожу на порог, Маруся делает мне знак не шуметь: у мамы с утра мигрень. Она лежит без движения, с потемневшим лицом. Голова ее туго обмотана большим полотенцем, которое Маруся каждые двадцать минут погружает в наполненный уксусом таз.
— Мама была в гимназии. Ходила за твоими документами! — говорит она укоризненным шепотом. — Бургмейстер кричал на нее. Да, кричал. И все из-за тебя, из-за тебя!
Я стою у маминой постели, и сердце моё ноет от тоски. Потом иду на кухню, чтобы не разреветься при маме. Маруся протягивает мне три пятака:
— Я на твоем месте пошла бы сейчас к Гавриленко, купила бы к ужину хлеба и полфунта перловой крупы.
Лавка Гавриленко за углом, на Старо-Портофранковской улице. Беру деньги и уныло бреду к Гавриленко. И нужно же так случиться, что первый, кого я встречаю, еще не дойдя до угла, — Валька Тюнтин! Его сонное лицо с подслеповатыми глазками пышет самодовольством и важностью. В руке у него тяжелая трость, хотя ношение палок, зонтиков, тростей и дубинок строго-настрого запрещено гимназистам. В наших краях Валька бывает почти ежедневно: здесь неподалеку живет его тетка, вдова какого-то московского барина, занимающая целый этаж в доме мадам Шершеневич.