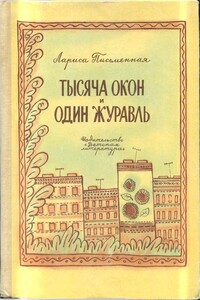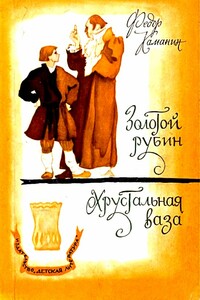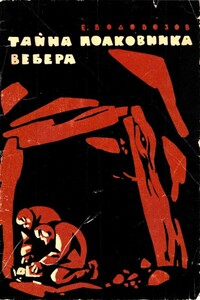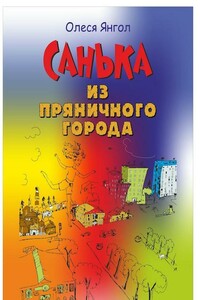Серебряный герб | страница 59
Иван Митрофаныч садится на какую-то тумбу в черной тени возле дома и, снова притянув меня к себе, повторяет свой грустный упрек:
— Ты ведь не маленький, пора понимать!
Потом долго молчит и вдруг спрашивает ни с того ни с сего:
— Ты когда-нибудь слыхал про Топтыгина Третьего?
— Про какого Топтыгина?
— Про покойного, „в бозе почившего“? Вот он и виноват в твоей беде!
„В бозе почившим“ называли тогда царя Александра III, того самого, что скончался два года назад.
Помню, едва только в нашей гимназии узнали, что он „в бозе почил“, то есть, говоря попросту, умер, Шестиглазый, Прохор Евгеньич и поп стали взапуски расхваливать его и так хныкали на панихидах, так часто повторяли, колотя себя в грудь, какой он был хороший, мудрый, благородный и добрый, не просто царь, а царь-миротворец, — что в конце концов мы, детвора, поверили их похвалам и горячо горевали об умершем царе. На портрете, что висел в нашем зале (теперь его рама была обтянута трауром), он изображен таким простодушным и благостным, с такой застенчивой хорошей улыбкой, что, глядя на него, было невозможно подумать, будто он способен на какие-нибудь злобные каверзы.
А на самом деле, по словам Финти-Монти, это был настоящий солдафон, держиморда… Вместе со своими министрами он состряпал свирепый приказ о так называемых „кухаркиных детях“: чтобы в гимназии ни за что не допускались дети рабочих, мастеровых, кучеров, судомоек, приказчиков, грузчиков, швей.
— Но какая же радость царю, — спрашиваю я с удивлением, — если все мы останемся неучами?
Иван Митрофаныч не успевает ответить — его перебивает Блохин.
— А скажи, пожалуйста, — говорит он насмешливо, — какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая ему будет от этого выгода? Богатые, они не пойдут бунтовать, а которые бедные, да еще из простых, — ого-го!
— Верно, верно! — говорит Финти-Монти и, тяжело опираясь на палку, входит в полосу лунного света.
— Сейчас он будет петь! Вот увидишь! — говорит мне шепотом Муня Блохин. — Уж я его знаю, пфа!
И действительно, Финти-Монти откашливается и запевает сиплым баритоном:
Но тут же обрывает свое пение и, взяв меня за кушак, начинает втолковывать мне, что я ни в чем, ни в чем не виноват. Кое-что в его словах мне непонятно, но главное я все же улавливаю. Дело, оказывается, вовсе не в том, подучил ли я Козельского закопать в землю дневник. Все это вздор, не имеющий никакого значения. Главное в том, что у мамы моей нет ни такого дома, как у „вдовы подполковника Тюнтиной“, ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такого ресторана, как у Сигизмунда Козельского, — у нее ничего нет, кроме рук, стертых до крови от стирки чужого белья. Оттого-то и решено не допускать меня до университетской скамьи.