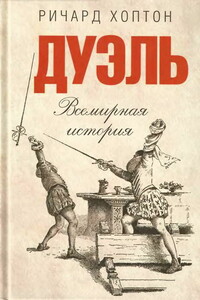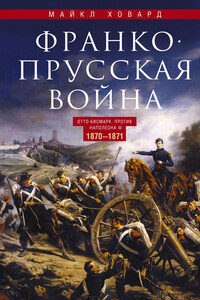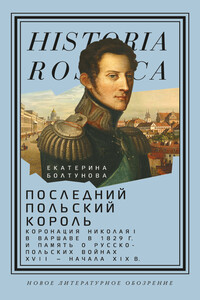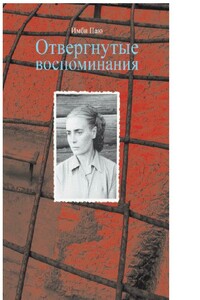Чингисхан | страница 55
Тем временем Темучин прячется в лесу, уходит по знакомым с детства оленьим тропам, спит в шалаше из ивовых веток, что нарезал у реки. На четвертое утро, когда опасность миновала, Темучин перестает прятаться и чувствует прилив благодарности за спасение. По крайней мере, вот как он позже рассказывает о пережитом. Он мог рассказывать то, что хотел. Никого другого, кто мог бы передать события тех дней по-другому, рядом с ним в то приключение не было.
Хотя священными считаются все горы, эта гора, конечно же, из всех гор заслуживает особого внимания. Он дает обет всегда почитать ее как место своего спасения, упоминая каждый день в своих молитвах: «Семя моего семени будет это блю сти». Обратившись лицом к восходящему солнцу, он обвертывает шею своим поясом, почтительно снимает шапку, бьет себя в грудь, совершает ритуальный девятикратный поклон в сторону солнца и, встав на колени, умащивает землю животным жиром иараком.
Возможно, что ничего подобного не имело места. Возможно, после того, как он создал империю, Чингис решил создать вокруг своего спасения особую атмосферу и тем самым подчеркнуть богоданность своего права на правление, точно так же, как китайские императоры притязали на божественное происхождение своего права на трон. Только китайский император предъявлял «мандат Неба» после того, как его династия пришла к власти. Чингис же перещеголял их, претендуя на то, что такой мандат был у него всегда, еще до того как он добился успеха, тогда, когда он был еще вошь на склоне горы. Для своих притязаний он не мог выбрать лучшего антуража. Гора от века была своеобразным кафедральным собором монголов. Совершенно естественно, что Чингис как правитель должен был желать, чтобы в нем виде ли еще и высшее духовное лицо, и представить себя в молодости в этой роли.
Это была далеко не только политическая тактика. Думаю, он был уверен в этом до глубины души. Как и почему это должно быть так, он не мог охватить, неразгаданная загадка стала частью его личности, и это очень своеобразно сказывалось на его отношении к религиям, с которыми ему приходилось сталкиваться, и на тех, кто до сих пор его почитает. Это создало в нем странную двойственность. С одной стороны, надменность и заносчивость человека, на ком лежит предначертание объединять, вести и побеждать и кто имеет безоговорочное оправдание для применения любых средств ради достижения божественной цели. С другой — смирение простого человека, благоговеющего перед необъяснимой природой предначертания. Вот что лежало в основе того парадоксального сочетания разрушительного и созидательного начал, свирепости и тороватости, которые составляли характер Чингиса.