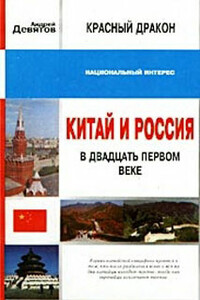Русские святыни | страница 54
Все эти установки и принципы и были реализованы эпохой Возрождения в Западной Европе. Не случайно Варлаам являлся личным учителем первых гуманистов данной эпохи Боккаччо и Петрарки. Указанные установки ярко проявляются в повторяющейся на разные лады в сочинениях ренессансных мыслителей формуле "индивидуальной независимости": "надо жить свободно и без оглядки на других"; "исходить в поступках из самого себя"; "вести себя по-своему, не перенимая чужого"; "заниматься своими делами на собственный лад" и т. д.[98] Гуманисты резко выступали против следования общепризнанным нормам, "чужим обыкновениям". Индивид должен сам решать, что ему подходит, а что нет, служить собственным основанием. "По природе своей человек — это чистая возможность, в нем заложены возможности любых проявлений жизни. Дальнейшее зависит только от его выбора и воли. Он сам осуществляет себя, "мнет и кует себя по угодной ему форме".[99] Свобода желанна в качестве блага, свободен тот, кто живет, как желает. Человеческая душа "не терпит никакой зависимости" и стремится "первенствовать во всем, даже в вещах самых малых и в самых незначительных забавах", ведь уступить другому в чем-либо — "против естественного достоинства человека".[100]
Данные принципы жизни, конечно, пробуждали личную инициативу и активность человека, способствовали раскрытию его индивидуальных сил и способностей, но они же приводили и к тому, что А. Лосев охарактеризовал как "обратную сторону ренессансного титанизма". Он отмечает, что всякого рода разгул страстей, своеволия и моральной распущенности достиг в возрожденческой Италии невероятных размеров. Пышным цветом там расцвели честолюбие и беспринципность, эгоизм и эгоцентризм, безбожие и безнравственность, сладострастие и самообожание, вспыльчивость и жестокость. Весь этот разгул страстей нельзя оторвать от индивидуализма и прославленного титанизма эпохи Возрождения.[101]
И вторая проблема — бытийно-практическая. Восприятие Бога как абсолютной истины (и тогда высшей рациональности), земного мира как сотворенного, греховного, по сути, и резкой границы между ними привело к болезни европейской философии — разрыву слова и дела. Истина слова и дело бытия (жизни) разошлись столь основательно, что уже в Итальянском Возрождении среди титанов Возрождения и гуманизма мы видим громадное число аморальных и даже преступных типов. Цезарь Борджиа и Бенвенуто Челлини с Никколо Макиавелли могут быть своеобразными образцами этой эпохи титанов мысли, творчества, с одной стороны, и своекорыстия, подлости, лицемерия, эгоизма, с другой стороны. И в дальнейшем в европейской философии достаточно редки философы, которые жили как учили. Наоборот, правилом являлся разрыв между словом текста и делом жизни, бытием и учением. Примером могут служить проповеди известного францисканского проповедника Бертольда Регенсбургского, деятельность которого приходится на 60—70-е годы ХШ века. В одной из своих проповедей он перечисляет "Божьи дары", данные чело-