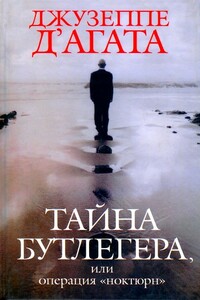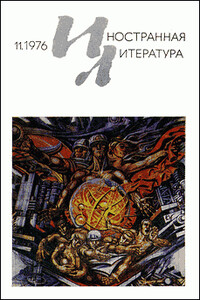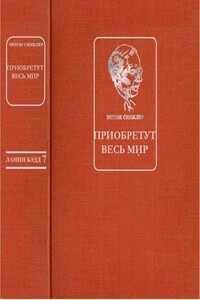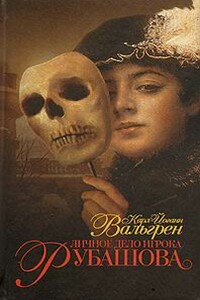Загадка да Винчи, или В начале было тело | страница 35
Франсуа был поэтом и вором, поэтом и убийцей. Вам приходилось встречать таких? В конце концов его приговорили к повешению.
Вот что я тебе скажу, — начал он, — тебе, который придерживается лицемерных правил морали, в тюрьме я гладил себе рукой шею и чувствовал, что, не ровен час, ее стянут веревкой, и представлял себя на виселице с вывалившимся языком, как у Кэйо, который теперь, должно быть, поджаривается в аду. В итоге милость, корыстная милость заменила мне смерть на изгнание, и вот уже семь лет мне по ночам снится Париж.
Слушая этот рассказ, я рисовал Франсуа, лицо, — своим серебряным пером, а его пальцы, запачканные вином, — углем. Я почувствовал, как фальшивит мой голос, когда сказал ему, что его поэтический дар — великое счастье, потому что он умеет воссоздавать жизнь и природу, смягчать и утешать души. Разве не так? Если я правильно понимаю, для чего пишут стихи… Потому что, если я ошибаюсь, в этом занятии нет никакого смысла, только это может являться призванием поэта, хотя мне достаточно смотреть на вас, сказал я, в общем, мне достаточно того, что вы любите красоту и истину, а остальное…
Тут он перебил меня, заметив, что все остальное и есть жизнь, которая может дать человеку красоту истины или уродливую правду, что есть одно и то же.
Только посредственность избавлена от пороков, — заявил я.
Но у моих слов был звук расколовшейся глиняной посуды, от смущения я схватился за бурдюк с вином и отпил из него, хотя терпеть не могу вино, особенно французское. Я улыбался, как последний тупица, и не мог остановить поток вопросов, которые мне давно хотелось задать.
Откуда эта кровь на животе? Что с вами произошло? Кто-то ранил вас?
Франсуа приложил худой палец к губам, которые раздвинулись в саркастической улыбке: Тише, лучше не беспокоить Юпитера и Венеру, которые верховодят моим брюхом, они вроде бы унялись, — может быть, занялись любовью. Венера отвлекла громовержца и тем самым на какое-то время остановила кровь и заговорила боль.
Не говорите так, маэстро, — прервал его встревоженный Фирмино, — не шутите так со звездами, я молю небо о том, чтобы их положение оказалось счастливым для вас и вы быстро поправились.
Это был не удар шпаги, Леонардо, а тоненький надрез, сделанный хирургом, возвеличившим ремесло брадобрея до искусства и взрезавшим мне живот, как какой-нибудь курице. Видел бы ты, как он рылся внутри, как он щупал мои внутренности, причиняя мне муки, и как выпустил из меня целую реку крови и грязи!