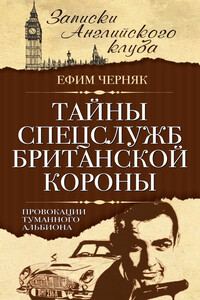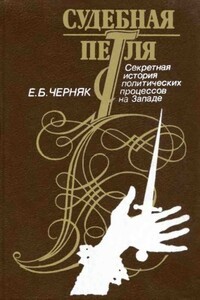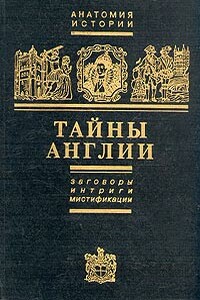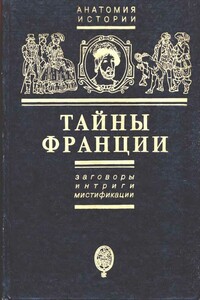Вековые конфликты | страница 22
Стремление найти платформу для восстановления единства обнаруживалось порой и с католической стороны. Георг Витцель (1501 -1573), священник, принявший в 1524 году лютеранство и вернувшийся через девять лет в лоно католицизма, выдвигал различные проекты примирения церквей. В конце своей карьеры он стал доверенным лицом короля - потом императора - Фердинанда I. «Разве можно поделить Христа?» - патетически вопрошал Витцель, предлагая свои компромиссные решения. Аналогичную позицию занимал нидерландец Георг Кассандер (1513-1566), считавший, что существует единая платформа для всех христиан, за исключением радикальных течений в Реформации. Он издал специальный труд, в котором, разбирая один за другим пункты «Аугсбург-ского исповедания», старался их примирить с доктринами католицизма.
Эти старания найти общую основу католицизма и лютеранства имели, конечно, и свою социальную и политическую почву. Немалую роль играли здесь и общий страх перед народным течением в Реформации, и обстановка, созданная в Германии наступлением феодальной реакции (второе закрепощение крестьян), и самый характер тогдашнего лютеранства как княжеской реформации, и международная обстановка, и другие причины, впрочем, также далекие от гуманистической мечты Эразма, от его надежды искоренить войны и вражду между европейскими народами.
Социальная почва и политические причины, побуждавшие даже Габсбургов время от времени поощрять примирительные жесты, могли лишь именно порождать новые попытки такого рода, но никак не привести их к успеху, что противоречило бы главным тенденциям общественно-политического и идейного развития Европы. Этот успех был невозможен уже потому хотя бы, что он шел вразрез с устремлениями и крайнего крыла католицизма, одержавшего верх в консервативном лагере, и бюргерского течения в Реформации - кальвинизма, которое быстро усиливалось начиная с 40-х годов. Меланхтон подвергался яростным нападкам за свое примиренчество,, недаром последними его словами на смертном одре были слова благодарности богу «за избавление от ярости богословов». Примирения быть не могло - могли быть достигнуты лишь сосуществование государств с разной религией, отказ от попытки «экспортировать» свою религию вооруженным путем и сведение к минимуму вмешательства в дела других государств, даже когда в них происходила острая борьба сторонников и противников Реформации. Но и эта цель оказалась в пределах XVI века достижимой лишь частично, на исторически ограниченные сроки, скорее только как относительное перемирие в вековом конфликте.