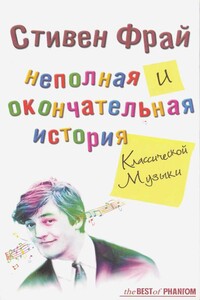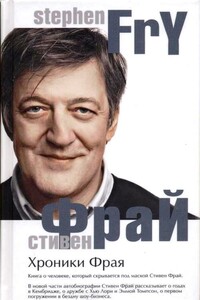Пресс-папье | страница 82
Христос
Я далеко не теолог, однако святого Игнатия от Йена Пейсли[111] отличить все же способен – лойолиста от лоялиста, так сказать, – а уж пелагианца могу отличить от гностика с расстояния в пятьдесят шагов. Тем не менее обсуждаемая ныне проблема посягательства на веру вызывает у меня, должен признаться, недоумение. Я говорю, разумеется, да и кто сейчас о нем не говорит, о фильме Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Мне очень хотелось бы полностью понять нарекания, которые он вызывает. Поскольку я не христианин, мне могут сказать, что понимать доктрины веры или комментировать их – это не мое дело, однако я не считаю таким уж чрезмерно греховным вопрос о том, по какой причине мне отказывают в возможности посмотреть последний фильм одного из наиболее значительных и маниакально нравственных кинорежиссеров последних двадцати лет.
Говоря так о Скорсезе, я ничего не преувеличиваю. Я помню, как многие уже годы назад он давал Мелвину Брэггу интервью, и его спросили, какова, по его мнению, главная тема фильмов, которые он снимает. Сидя в низком кресле просмотрового зала и помаргивая, точно робкий кюре, Скорсезе без колебаний ответил, что все они говорят о грехе и искуплении. И я, вспомнив «Берту-Товарняк», «Злые улицы», «Таксиста», «Алиса здесь больше не живет», «Бешеного быка», «Короля комедии» – замечательные, серьезные oeuvre[112] (как предпочитают называть их кинематографисты), которые сделали бы честь любому режиссеру, – вроде бы понял, о чем он говорит. Эти фильмы могут быть какими угодно, но популистской, коммерческой дребеденью их никак не назовешь. Они настолько близки к «серьезному кино», насколько нынешний Голливуд вообще способен к нему подобраться.
Я думаю, что людей, фильма, подобно мне, не видевших, а всего только слышавших разговоры о нем, выводит из себя сцена, в которой Христу привиделось что-то вроде эротического сна. Насколько мне известно, этот фильм не преуменьшает его страдания, не осмеивает его, не принижает достигнутого им и не изображает Христа кем-то отличным от пылкого сына Божия, каким считают его христиане. Он делает то, что искусству удается делать лучше всего: показывает нам человека – точно так же, как Шекспир показал нам Антония и Клеопатру, – проявляя при этом к правде человеческой уважение большее, чем к исторической.