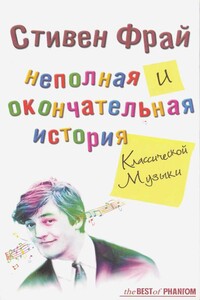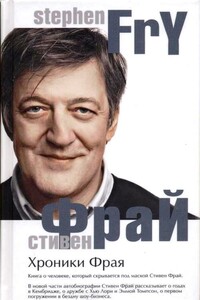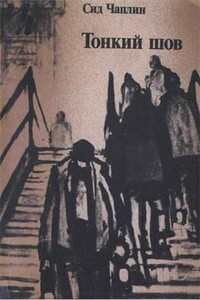Пресс-папье | страница 45
Я приехал сюда, как наверняка знают те из вас, кто читает «Neue Philologische Abteilung», чтобы поучаствовать в посвященной миграции переднего лабиального звука конференции, которую проводит нью-йоркский Колумбийский университет. Чтобы не вдаваться в подробности чрезмерно технические, речь идет о влиянии испанского взрывного звука на американский английский язык, – область, в которой меня считают своего рода специалистом.
Поскольку я впервые за всю мою жизнь покинул пределы Кембриджа, вам не составит труда сообразить, что в последние несколько дней я испытывал своего рода испуг. «Культурный шок» – вот, сколько я понимаю, terminus technicus,[72] посредством которого здесь описывают нападающее на человека тягостное чувство растерянности и отрешенности. Мне трудно поверить, что даже какая-нибудь иная планета сможет преподнести нам столько же сюрпризов, сколько таит в себе этот напряженный, требующий мгновенных реакций город.
Прежде всего, я должен осведомить тех, кто не посещал эту островную конурбацию, что здания здесь очень высокие. О да. Чудовищно высокие. Ну очень высокие, очень. Это факт. Они просто тянутся и тянутся вверх. Я говорю это, находясь на двадцать первом этаже одного из них, а ведь, поднявшись сюда, я не проделал и трети пути до его верха.
А поскольку, даже разглядывая персидские палимпсесты[73] кипрской династии на шестом этаже университетской библиотеки Кембриджа, я имею обыкновение заходиться время от времени в судорогах, легко представить себе, какие мучительные, неловкие сцены, какие увещевания имели место в лифте этого здания, когда я впервые посягнул на него. Мне стоит лишь подумать о том, сколь высоко я нахожусь, как у меня голова начинает идти кругом. Чрезмерная возвышенность этих строений формирует, как вы легко себе можете представить, саму линию здешнего горизонта. Результат отличается, что на деле весьма удивительно, поразительной красотой. Должен также сказать вам, что местные таксиметрические кабриолеты, или такси-кебы, как их здесь для краткости именуют, окрашены в веселый, живительно желтый цвет, примерно такой же, как у весенних мимоз, что и освежает город напоминающими о названном времени года вкраплениями словно бы первоцвета. Я полагаю, что в течение года машины эти меняют окраску – осенью они становятся красными, зимой белыми, а летом, быть может, небесно-голубыми. Впрочем, нет, юный инженер, расположившийся по другую от меня сторону стеклянной перегородки, покачивает головой. Ну понятно, они всегда остаются желтыми.