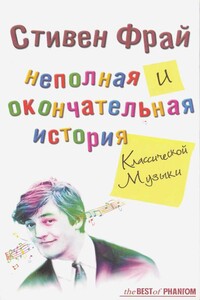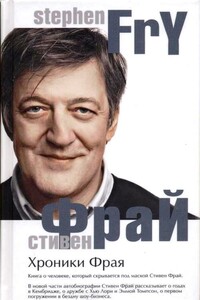Пресс-папье | страница 32
Розина, леди Сбрендинг, вспоминает тот же вечер.
Родственные связи с семейством Керкмайкл – моя бабушка, маркиза Глоуверэйвон, была урожденной леди Виэллой Керкмайкл – уже с раннего возраста открыли передо мной двери английских гостиных и загородных поместий, двери того мира, который Вторая мировая война занавесила шторами затемнений, навсегда угасив его блеск. Именно привилегированный entrée[50] в этот мир положительно индоссировал мою и без того уже сильную девичью привязанность к пресвитерианству крипто-синдикалистского, анархо-марксистского и необуддийского толка. Какой бы саркастичной юной негодницей ни была я в 1930-х, однако и я, с такой бестактностью отвергавшая все, за что держалась моя семья, не могла не увлечься красотой, обаянием, яркостью и теплом тех реликтов золотого эдвардианского столетия, которые светились еще сильнее от того, что их окружал безрадостный мрак десятилетней депрессии.
И конечно, любимыми моими приемами были те, что задавала Джакуинда Марриотт в ее лондонской резиденции, стоявшей, сколько я помню, на Кердистон-сквер. Она называла их salons, каковыми они, разумеется, не были. Перманентных завивок там никому не делали.
Помню один такой вечер мая или июня 1932 года. На него каждому надлежало явиться в обличье какого-нибудь парадокса. Берти Рассел переоделся группой групп, которая не содержится в этой группе; я изображала Ахилла, а моя сестра Кастелла – черепаху. Я очень жалела бедного Г. К. Честертона, явившегося в виде ответа на вопрос «Это вопрос?», из-за чего в тот вечер все его игнорировали. Стояла прелестная летняя ночь, мне было девятнадцать лет, и весь мир лежал у моих ног.
Однако в каждом раю есть своя гадюка, и червоточиной в яблоке этого вечера стала противная Бранделия Каркстон, посвятившая всю себя тому, чтобы испортить мне вечер. Она осмеивала меня, наступала на шлейфы моих мыслей, стряхивала в мой бокал пепел сигареты и зевала при каждом моем слове. Она никогда не любила меня и делала все, чтобы спровоцировать на какую-нибудь вульгарную выходку. И вот, стоя рядом с Осбертом Ситвеллом[51] и слушая, как он обучает Лоуренса Оливье говорить с немецким акцентом, я вдруг заметила по другую сторону залы молодого Дональда Трефузиса. Сердце мое пропустило удар: вот он, высокий, красивый юноша, которого я обожала до беспамятства еще в те дни, когда носила конский хвостик и бараньи уши. Бранделия Каркстон подло ущипнула меня за руку. Извинившись перед Оливье и Ситвеллом, я, следом за мерзкой девицей Каркстон, направилась к Дональду. Он откинул назад голову, и я, верно поняв его намерения, отпрыгнула в сторону, предоставив ему возможность облевать жалкую Бранделию сверху донизу. Никогда не испытывала я мгновения более упоительного. И никогда, с тех пор как на мысе Ферра загорелся в 1924 году парик, осенявший голову Эдгара Уоллеса,