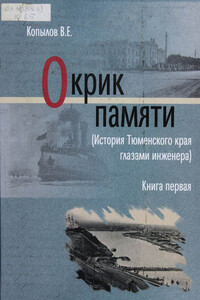День Литературы, 2002 № 03 (067) | страница 27
В.Б.
Олег Дорогань ДВЕ СТЕЗИ — ДВЕ СУДЬБЫ (О Юрии КУЗНЕЦОВЕ и Викторе СМИРНОВЕ)
Однажды в походной библиотечке я обнаружил только что изданную книгу Юрия Кузнецова "Отпущу свою душу на волю". Есть настольные книги, эта стала — нагрудной.
Волею служебных обстоятельств я в ранге заместителя командира ракетного дивизиона оказался тогда на государственном полигоне в Капустин-Яре. Наш отдельный дивизион стоял здесь лагерем-бивуаком в ожидании тактических учений с боевыми пусками ракет. Вольный скифский ветер гулял из края в край. Он срывал палатки, складывающие воздетые к небу крылья, своими студёными порывами охлёстывал нас в палаточных гнёздах, вырывал из рук концы палаточной парусины.
Тогда-то и зазвучали во мне кузнецовские властно-магические интонации: "Сажусь на коня вороного — проносится тысяча лет"… И хмурая, холодная, безжизненная прикаспийская степь, где нам во что бы то ни стало предстояло выполнить свою боевую задачу, становилась моим Куликовым полем:
Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное знамя победы
Я вынес на теле своём.
Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.
В краткой преамбуле к этой книге значилось, что "поэт идёт от фольклорных образов и мотивов, давая им своеобразную творческую интерпретацию". Но я-то понял, что означало обращение поэта к славянскому фольклору и летописной истории Руси, к языческой мифологии и древним обычаям. Поэт "отпускал свою душу на волю" из тогдашних тоталитарных пут государства. Он исповедовал свою поэтическую веру, органически чуждую догмам марксово-материалистического рая. Стихи в противовес Системе. Стихия — но не Хаос: "Всё розное в мире — едино, но только стихия творит".
Иссушенный официально принятыми в нашем обществе постулатами, я воспринял поэзию Ю. Кузнецова как мощное высвобождение духа.
Чеканная и раскованная вязь-кириллица его стихов находила где-то в глубинах моей души свой генно-корневой отклик. Чудилось, его стихами заговорила сама Память — вековечная и во многом попранная у нас. Поэт чутко вслушивался в шорохи и шёпоты, интонации и боевые кличи наших прославленных скифско-сарматских и варяжско-славянских предков. Языческие боги и духи, герои летописей и былин, трансформируясь в сознании поэта, органически сливались с представлениями о собственной поэтической вере. Так возникает у него Пустынник: "Когда подымает руки — мир озаряет свет. Когда опускает руки — мира и света нет". Так "воскресает великий мертвец", что "небесную молнию ловит в богатырскую руку свою и навек поражает змею", воссоединяя концы с началами. Молния, пригвоздившая змею, становится посохом: