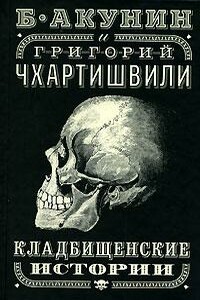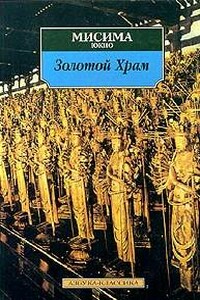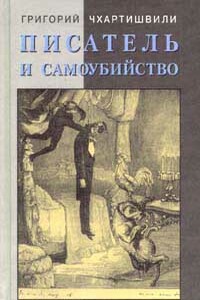Писатель и самоубийство | страница 26
Религия вводит понятие ответственности человека за его поступки и, в конечном итоге, за всю его жизнь. Ответственности окончательной, ибо уйти от нее невозможно. Один из самых убедительных противников самоубийства, Н. Бердяев, пишет: «Каждый несет с т р а ш н у ю о т в е т с т в е н н о с т ь [разрядка моя — Г.Ч.], он или утверждает жизнь, возрождение, надежду — или смерть, разложение, отчаяние». Это сильный аргумент — но лишь для человека верующего. Человек неверующий своей жизнью ничего не утверждает, он просто живет, и, если это человек достойный, то старается прожить так, чтобы ему не было от самого себя противно.
Главная социальная функция религии на протяжении истории состояла в том, чтобы человечество соблюдало хотя бы некие минимальные нормы общежития, чтобы наш биологический вид, склонный к истреблению себе подобных, выжил. Система религиозных запретов (заповедей) действовала крайне неэффективно, но все же задавала определенные координаты этического поведения.
В современном мире религиозное чувство и, соответственно, сдерживающее воздействие религиозной этики ослабло, но разве человечество в целом стало от этого менее нравственным? Пожалуй, нет. Скорее, наоборот. Жестокость и нетерпимость, два самых несимпатичных человеческих качества, сейчас менее популярны, чем пятьсот лет назад, когда в Бога верили поголовно все. У автора этой книги, как и у любого читателя, есть и верующие, и неверующие знакомые, однако на нравственности поведения ношение/неношение крестика никак не сказывается. Очевидно, с точки зрения этики, принимаемые на веру религиозные заповеди могут быть с успехом заменены врожденным и укрепленным при помощи воспитания нравственным чувством, которое безошибочно подсказывает человеку, что хорошо, а что плохо, что можно, а чего нельзя. Возможно, этот встроенный камертон и есть голос Бога. Тогда поверить в Бога легко, потому что этот камертон, этот внутренний закон действительно существует (более подробно на эту тему у И. Канта и Л. Толстого).
Что же говорит человеку о допустимости самоубийства нравственное чувство, очень часто диссонирующее с доводами рассудка?
Боюсь, что каждого из живущих на Земле придется спрашивать об этом персонально, и ответ будет в значительной степени зависеть от того, где человек родился и вырос. Значит ли это, что единой нравственной формулы по сему вопросу не существует? «Человек в сущности никогда не хочет убить себя, да это и невозможно, ибо человек принадлежит вечности, — с великолепной уверенностью пишет христианин Бердяев, — он хочет уничтожить лишь одно мгновение, принятое им за вечность, в одной точке хочет уничтожить все бытие и за это посягательство на жизнь он перед вечностью отвечает». Для меня слова русского философа действенны, они созвучны внутреннему, не обманывающему голосу «нравственного закона». Но с Бердяевым вряд ли согласится буддист, верящий в перерождение души и постепенное, восходящее движение к нирване. С точки зрения буддиста, есть жизненные коллизии, в которых самоубийство — не уничтожение всего бытия, а верный способ еще на ступень приблизиться к святости.