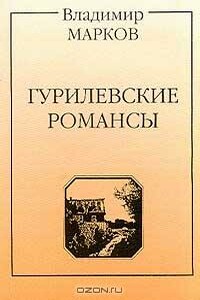О поэзии Георгия Иванова | страница 4
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.
Они советовали Георгию Иванову быть последовательным и «цельным» (как они) и идти самоубиваться, а не соблазнять других [1] (о, не их конечно, их не соблазнишь, но ведь всегда есть мальчик, который насмотрелся фильмов я убил свою бабушку). «Цельность», всё-таки, большой дефект, и я даже предпочитаю милого рецензента из полуграмотного сан-франциского журнала, который без негодования, а в недоумении, с упреком, писал о том же стихотворении: «Такой, казалось бы полный переживаний человек, и вдруг — самоубийство…». И, похвалив «отличную технику» рекомый рецензент не перестает жалеть о «духовной слабости» ивановских стихов, о «некотором моральном скольжении поэта куда-то вбок». Сей рецензент подводит нас к другой категории читателей Георгия Иванова, — его стыдливых защитников. Они признают, что у поэта есть вещи не совсем приемлемые в хорошем обществе, и они готовы принести обществу за поэта свои искренние извинения. Операция производится разными, но очень знакомыми средствами: 1) отделением неприятного от приятного («Вы знаете, я в «Войне и мире» пропускаю эти главы с философией поэзии» или «Мне тоже не нравятся онучи у Некрасова, «о у него есть — их немного, правда, — совсем пушкинские – строки, напр., «Прости, не помни дней паденья»); 2) при помощи формулы общедоступной сложности в два слоя («Иван Иванович только притворяется суровым, у него золотое сердце»; Гоголь — это «смех сквозь слезы», «наплевательство у Георгия Иванова — маска, поза, под которой скрывается другое»). Многослойность вообще, почему-то больше удовлетворяет, многоликости избегают. Так Пушкина тащит каждый в свой лагерь, так принято возмущаться Розановым-Варвариным и снисходительно замечать о Толстом-критике: «Великий был человек, а Шекспира не понял». Любят вертикальное, а горизонтальное вызывает негодование. Георгий Иванов многолик, а не многослоен, и каждое его лицо «необходимо.
В связи с этим неплохо вспомнить, что в 1938 году Георгий Иванов написал книжку «Распад атома», за которую особенно стыдливо извиняются его «стыдливые защитники». О книге этой теперь говорят вполголоса [2]. Естественно, конечно, что в «литературных кругах», где могли проговорить целый месяц об одном «непристойном» словечке из романа Поплавского, не находят даже красок для возмущения по поводу «Распада атома». Однако, их патриотические сердца могли бы проникнуться гордостью, если бы они знали, что это не только скандал в великой моральной «учительной» русской литературе, но что это, может быть, самый последовательный «нигилизм» в мировой литературе, что Георгий Иванов тут опередил и превзошел «самого» Генри Миллера, Напрасно было бы однако пытаться втолковать, что проза «Распада атома» местами очень хороша, что отвратительные образы этой книги — символы, и, как таковые, не передают всех качеств «изображаемых вещей», что они явственно образуют музыкальный узор из мотивов, что, наконец, восприятие слов и образов в литературном произведении иное, чем жизненных явлений, обозначаемых этими словами. Сами эти символы типичны для современной поэзии, они встречаются у Т. С. Элиота в «Waste Land», у Ходасевича («An Marieehen»).