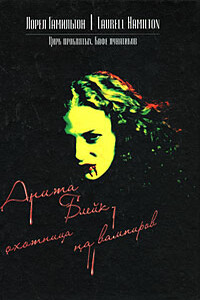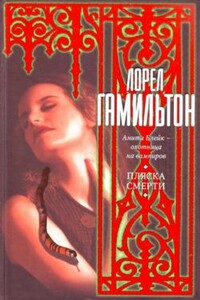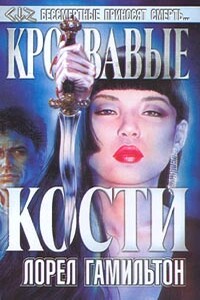Обсидиановая бабочка | страница 17
– Джон только за неделю до этого показал Питеру, как стрелять. Он был такой маленький, но я позволила ему взять ружье. Позволила ему застрелить монстра. Я позволила ему стоять перед этой тварью, а сама скорчилась на полу, не в силах шевельнуться.
Вот в чем был истинный ужас для Донны. Она допустила, чтобы маленький сын ее защитил. Позволила ребенку взять на себя взрослую роль защитника перед лицом кошмара. Она провалила главное испытание своей жизни, а Питер выдержал экзамен на взрослость в самом нежном возрасте. Неудивительно, что он ненавидит Эдуарда. Он заслужил право быть мужчиной в доме. Заслужил кровью, а теперь его мать хочет выйти замуж второй раз. А вот фиг ей.
Донна повернула ко мне измученные глаза. Она заморгала, будто с болезненным усилием выдергивала себя из прошлого. Она никак не примирилась с трагическим случаем, иначе бы он так живо не напоминал о себе. Когда наступает примирение, то о самом страшном горе рассказываешь без эмоций, так, будто оно стряслось с кем-то другим. Но даже смирившись, можешь поведать о минувшей истории как об интересном происшествии. Я встречала копов, которые лишь в пьяном виде могли выдать в разговоре боль о пережитой трагедии.
Донна страдала, Питер страдал. Эдуард не страдал. Я посмотрела на него, мимо искаженного болью лица Донны. Он уставился на меня пустыми глазами спокойного, выжидающего хищника. Как он смеет вот так влезать в чужую жизнь! Как смеет усугублять их страдания! Ведь как бы теперь ни повернулось, женится он или нет, они будут страдать. Все будут страдать, кроме Эдуарда. Хотя, быть может, тут я могла бы вмешаться. Если он испоганил жизнь Донне, я смогу испоганить жизнь ему. Ага, эта идея мне нравилась. Устрою я дождь над его парадом!
Наверное, мой замысел отразился у меня в глазах, потому что Эдуард чуть прищурился, и на миг я ощутила в позвоночнике холодок, который он умел навевать одним своим взглядом. Он был очень опасен, но ради защиты этой семьи я проверю, какова степень его угрозы, а заодно и моей тоже. Наконец-то Эдуард нашел, чем достать меня настолько, чтобы я нажала бы на кнопку, которую не хотела трогать. Он должен оставить в покое Донну и ее семью. Должен уйти из их жизни. И я заставлю его это сделать, а не то… Когда имеешь дело с Эдуардом, есть единственное «а не то». Смерть.
Мы смотрели друг на друга поверх головы Донны, пока он прижимал ее к своей груди, гладил ей волосы, говорил какие-то ласковые слова. Но его лицо и взгляд были обращены только ко мне, и пока мы смотрели друг на друга, я не сомневалась, что он знает мои мысли. Он понимал, к какому я пришла заключению, хотя вряд ли догадывался, почему его интрижка с Донной и ее детьми стала соломинкой, сломавшей спину верблюда. Но достаточно было видеть его взгляд. Пусть ему и невдомек почему, но он знает, что этот траханый верблюд разломался надвое, и единственное, что ему остается, – выполнять то, чего я от него хочу, или же погибнуть. Именно так – я бы это сделала. Я знала, что могу прицелиться и застрелить Эдуарда, причем не для того чтобы ранить, а убить. Это вызывало холодную тяжесть в груди, но вселяло уверенность, которая позволяла чувствовать себя сильнее – и чуточку более одинокой. Эдуард не раз спасал мне жизнь. И я не раз спасала ему жизнь. Но… но… Я буду тосковать без Эдуарда, но я его убью, если придется. Эдуард гадает, почему я так сочувствую монстрам. Ответ простой: я сама монстр.