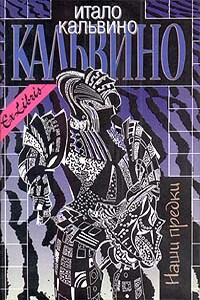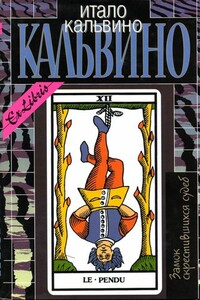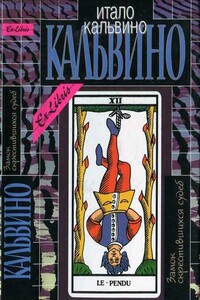Барон на дереве | страница 39
Одному-единственному человеку отец доверял целиком и полностью: то был кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега. Барон питал слабость к своему единокровному брату и любил его, как единственного и несчастного сына.
Трудно сказать, сознавали мы тогда это или нет, однако на нашем отношении к дядюшке сказывалась ревность — ведь отцу пятидесятилетний брат был дороже, чем мы, сыновья. Впрочем, не мы одни поглядывали на него косо. Мать и Баттиста притворялись, будто почитают дядюшку, а сами терпеть его не могли; сам же он под личиной покорности скрывал презрение ко всем и ко всему, а может быть, просто ненавидел и нас, и даже отца, которому был стольким обязан. Кавалер-адвокат говорил мало, иной раз его можно было принять за глухонемого или подумать, что он не знает нашего языка. Одному Богу известно, каким образом ему прежде удавалось вести дела в суде, если он и раньше, до турок, был таким же странным. Вероятно, он был человек способный, если обучился у турок сложным расчетам плотин и водохранилищ — единственное его достоинство, предмет неумеренных похвал моего отца.
Я не знал толком о его прошлом: ни того, кем была его мать, ни каковы были в молодости его отношения с нашим дедушкой (наверняка дедушка был к нему привязан, иначе бы не послал Энеа-Сильвио учиться на адвоката и не исхлопотал бы ему титул кавалера), ни как он попал в Турцию. Мы даже не знали, точно ли в Турции он пробыл долгое время или же в какой-нибудь из берберийских стран — в Тунисе либо в Алжире, словом, среди мусульман. Говорили, что он и сам принял мусульманскую веру. Впрочем, чего только о нем не рассказывали: будто бы он занимал в Турции важную должность не то советника султана, не то главного хранителя водоемов при Диване, но потом, то ли после заговора придворных, то ли из-за подозрения султана, что Энеа-Сильвио поглядывает на его жен, то ли из-за карточного долга, он впал в немилость и был продан в рабство. Освободили его венецианцы, захватившие турецкую галеру, где наш дядюшка, прикованный цепью вместе с остальными рабами, был гребцом. В Венеции он жил словно нищий, пока не попал в какую-то темную историю и не угодил снова в колодки. Утверждают, что он ввязался в драку, но трудно себе представить, с кем мог подраться этот робкий человек. Из тюрьмы его вызволил наш отец благодаря посредничеству чиновников Генуэзской республики, и вот среди нас появился лысый, чернобородый человек, молчаливый, вечно испуганный, закутанный в широкое платье с чужого плеча. Я был тогда совсем маленьким, но тот вечер навсегда врезался мне в память. Отец велел всем относиться к дядюшке с должным почтением, назначил его своим управляющим и выделил ему кабинет, который кавалер-адвокат вскоре завалил всякими бумагами. Энеа-Сильвио Каррега носил халат и похожую на феску ермолку, какие весьма часто надевали дворяне и богатые горожане, сидя в своих кабинетах; впрочем, в отличие от них наш дядюшка п кабинете почти не сидел и постепенно стал разгуливать в таком одеянии по полям и по деревням. В конце концов он и к столу начал являться в своих турецких одеждах, и, что самое странное, отец, столь неукоснительно требовавший соблюдения этикета, примирился с этим.