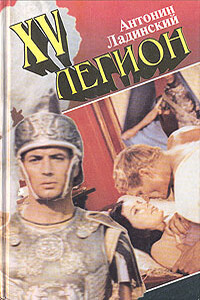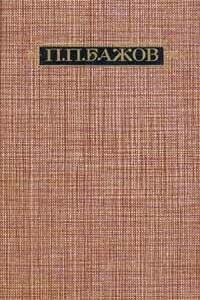Рвач | страница 25
- Дудки!
Вот это слово и озадачило Михаила, столько в нем было возмущения и отчаяния. Михаил уже остановился. Но стоять было опасно: грозили не только пули, грозил душевный разлад. Надо было спешить в бюро.
Помещалось оно в маленьком «иллюзионе». Первое, что почувствовал Михаил, - дрожь. Нет, не свою, все вокруг дрожало. Дрожали от ветра (пули уже истолокли стекла) занавески, дрожали хриплые голоса старавшихся перекричать друг друга представителей партии, дрожал весь дом. Дрожь передалась и Михаилу, дрожь не страха, но неопределенности. Валявшиеся в углу винтовки казались декоративными, свезенными сюда скорее для подсчета инвентаря, нежели для практического употребления. Только один человек среди этих зыбких фигур сохранял твердый контур - это был полковник с короткими, на английский манер подстриженными усами. Он заботливо берег все приметы своего достоинства - от презрительной краткости в репликах представителю городской думы «к среде усмирим» до облачка тройного одеколона. Глаза у полковника были бульдожьи - круглые, выпуклые, боевые. Напав на них, Михаил отшатнулся: такой может взять и за здорово живешь выпороть. Что касается других, то они напомнили Михаилу завсегдатаев киевских паштетных. Идеологию подавал представитель думы, с высот эстрады жалостно кудахтавший: «Они могли бы, во всяком случае, подождать до выборов в Учредительное собрание...» В углах шло более жизненное: «третью ночь не спал», «из Минска четыре эшелона перешли к большевикам», «черт с ними, вопрос, как достать колбасы?». В ожидании своей очереди Михаил присел на ступеньку. Может быть, он задремал после шести утомительных ночей в вагоне, а может быть, только задумался. Но если это и было дремотой, то живой, благодетельной, когда, разрывая связь очередных жидких мыслей, человек проникает в свою вторую жизнь, плотную, органическую. Наконец-то черед дошел до Михаила. Он поднялся с тяжелой головой, но как бы протрезвевший. Чуждость окружающего в последний раз подчеркнули случайно дошедшие до него слова: «Советы, mon vieux[1], но это просто воняет...» Он стоял у стола, ручка гимназиста выжидательно заострилась. Но вместо имени и фамилии последовало совершенно нелепое слово - «дудки!», которое Михаил сказал самому себе в виде резюме, сказал вслух, достаточно громко, чтобы его услышали все, вплоть до идеолога на эстраде. Сказав же это, он спокойно, безразлично, не проверяя эффекта, произведенного брошенным словечком, направился к выходу. Он даже не помнил, сказал ли он что-либо. Нужно признаться, что эффект был ничтожен. При всей его бессмысленности, поведение подозрительного добровольца никого не поразило: все эти люди, воспитанные на декадентских стихах, на понюшках кокаина, на диких годах, когда галицийская шинковка шла под бешеный танго танцулек, были ко всему привыкшими. Тот, что щеголял французскими словечками, впрочем, пожал плечами: «каналья», и все.