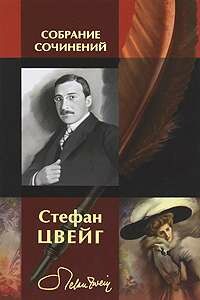Вчерашний мир | страница 83
Я сказал, что охотно предложил бы небольшую прозаическую работу, и передал рукопись. Он взглянул на титульный лист, пролистал вплоть до последней страницы, чтобы узнать объем, затем еще глубже откинулся в кресле. И, к моему удивлению (этого я не ожидал), я увидел, что он тут же начал читать рукопись. Он читал внимательно, страницу за страницей, не поднимая глаз. Прочитав последний лист, он неспешно сложил рукопись, вложил ее, все еще не глядя на меня, аккуратно в конверт и синим карандашом сделал на нем какую-то пометку. Лишь после того, как этими таинственными манипуляциями он достаточно долго продержал меня в напряжении, он поднял на меня тяжелый, хмурый взгляд и произнес с намеренно замедленной торжественностью: "Я рад сообщить вам, что ваша прекрасная работа принята в отдел критики "Нойе фрайе прессе"". Словно Наполеон приколол на поле брани орден Почетного легиона молодому сержанту.
Сам по себе этот эпизод кажется незначительным. Но надо быть венцем, и венцем того поколения, чтобы понять, какой взлет означало это признание. Тем самым я на девятнадцатом году жизни за одну ночь возвысился до уровня авторитетов, и Теодор Герцль, с этого момента благорасположившись ко мне, сразу же использовал случайный повод, чтобы в одной из своих ближайших статей написать, что нет оснований говорить об упадке искусства в Вене. Напротив, сейчас наряду с Гофмансталем есть целый ряд талантов, от которых можно многого ожидать, и на первое место поставил мое имя. Я всегда воспринимал как особую честь, что Теодор Герцль, человек столь исключительной значимости, первым публично отметил меня с высоты своей заметной, а потому ответственной должности, и мне было нелегко решиться тем самым проявив мнимую неблагодарность - на отказ от его настойчивого предложения присоединиться и даже активно участвовать в руководстве его сионистским движением.
Но настоящей привязанности как-то не получалось; меня неприятно поражала непочтительность, сегодня, пожалуй, уже немыслимая, с которой относились к самому Герцлю его же товарищи по партии. Восточные евреи упрекали его в том, что он ничего не смыслит в иудаизме, даже не знает обрядов, специалисты по национальной экономике смотрели на него только как на литератора, у каждого было свое и не всегда приемлемого тона возражение. Я понимал, какое плодотворное или тлетворное воздействие именно в ту пору могли бы оказать на Герцля по-настоящему преданные, особенно молодые люди, но бранчливый, не терпящий ни малейших возражений характер этих постоянных споров, отсутствие искреннего, сердечного уважения друг к другу в этом кругу отдалили меня от движения, к которому я с любопытством приблизился лишь из-за Герцля. Однажды, когда мы заговорили на эту тему, я выразил свое недовольство отсутствием достаточного единства в рядах движения. Он улыбнулся несколько кисло и сказал: "Не забывайте, что мы веками приучены к игре проблемами, к идейным спорам. У нас, евреев, ведь уже две тысячи лет не было никакой исторической практики в реализации чего-нибудь конкретного. Сперва следовало бы научиться жертвовать собой, а к этому я еще и сам не готов, ибо время от времени пишу статьи и веду отдел литературы в "Нойе фрайе прессе", тогда как мой долг - не иметь никаких иных мыслей, кроме одной, и не начертать на бумаге ни единой линии для чего-нибудь иного. Но я уже на пути к исправлению, обязательно хочу научиться жертвовать сам, и, быть может, этому научатся и другие". Я помню, что эти слова произвели на меня сильное впечатление, ибо мы все не понимали, почему Герцль так долго не решается отказаться от своей должности в "Нойе фрайе прессе", - мы думали, что это ради семьи. О том, что это не так и что он для дела пожертвовал даже своим состоянием, мир узнал лишь позднее. Как он страдал от душевного разлада, показал мне не только этот разговор, об этом свидетельствуют и многие заметки в его дневниках.