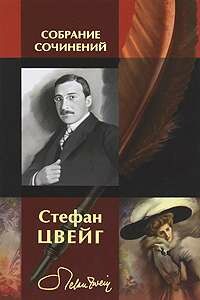Вчерашний мир | страница 116
Впервые открылась мне одна из тех таинственных натур, которые, сами не зная своего пути, проносятся на крыльях мечты сквозь дремучие дебри фантазии; дни и недели пытался я пробраться глубже в лабиринт этой наивной и вместе с тем демонической души и передать некоторые стихотворения Блейка на немецком языке. Мне страстно хотелось иметь хотя бы страничку с его автографом, и мечта эта казалась несбыточной. Но вот однажды мой друг Арчибальд Г. Б. Рассел, который был уже в те времена лучшим знатоком Блейка, рассказал, что на организованной им выставке продается один из "фантастических портретов" - "Король Джон", - по его (и моему) мнению, самый прекрасный карандашный рисунок мастера. "Он никогда вам не надоест", - предсказал Рассел и оказался прав. Из всех моих книг и картин лишь этот рисунок сопровождал меня более тридцати лет, и как часто магически притягивающие глаза этого сумасшедшего короля смотрели на меня со стены; из всего утраченного и оставленного мной имущества этот рисунок - то, чего мне в моих скитаниях недостает больше всего. Гений Англии, который я так усердно - и напрасно - пытался постичь на городских улицах, открылся мне внезапно в поистине астральном облике Блейка. И моя столь безмерная любовь к этому миру стала еще богаче.
ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ К САМОМУ СЕБЕ
Париж, Англия, Италия, Бельгия, Голландия - все эти увлекательные странствия по белу свету были не только приятны, но и во многом плодотворны. И все же человеку нужна - лишь теперь, став скитальцем уже не по доброй воле, а спасаясь от погони, я ощутил это в полной мере, человеку нужна исходная точка, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься вновь и вновь. За годы, прошедшие с окончания школы, составилась небольшая библиотека, набралось картин и памятных безделушек; рукописи накапливались толстыми пачками, и нельзя же было повсюду таскать за собой эту поклажу в чемоданах. И вот я присмотрел себе в Вене небольшую квартиру, но это был не домашний кров в полном смысле слова, а всего лишь pied-a-terre [144], как в таких случаях метко говорят французы. Дело в том, что вплоть до первой мировой войны я подчинял свою жизнь необъяснимому ощущению неокончательности всего, что я делал. За что бы я ни брался, я твердил себе, что все это еще не то, не настоящее; это касалось и моих произведений, которые я рассматривал лишь как пробу пера, и - равным образом - тех женщин, с которыми был близок. Поэтому я прожил мою молодость, не связывая себя серьезными обязательствами, беззаботно пробуя свои силы, вкушая радости жизни. Уже достигнув тех лет, когда другие давно женились, обзавелись детьми и чинами и, не щадя себя, выбивались из последних сил, я все еще считал себя молодым человеком, дебютантом, новичком, у которого впереди времени сколько угодно, и уклонялся от какого бы то ни было определенного выбора. Подобно тому, как я свою работу рассматривал лишь как подготовку к "настоящему делу", как визитную карточку, которая извещает литературу о моем существовании, так и квартира моя пока что означала только, что у меня появился адрес, не больше. Я специально выбрал маленькую и в пригороде, чтобы высокая плата не стесняла моей свободы. Я не покупал слишком хорошей мебели, потому что не хотел ее "жалеть", как мои родители, в доме которых на каждое кресло полагался чехол, снимавшийся только с приходом гостей. Я сознательно стремился не засиживаться в Вене подолгу, чтобы избежать сентиментальной привязанности к одному определенному месту. Эта "самодисциплина неприкаянности" долгие годы казалась мне ошибкой, но впоследствии, когда судьба несколько раз сгоняла меня с обжитого места и все, что составляло мой быт, рушилось на моих глазах, таинственное чувство "неприкаянности" очень мне помогало. Рано изведанное, оно облегчало мне любую потерю, любое расставание.