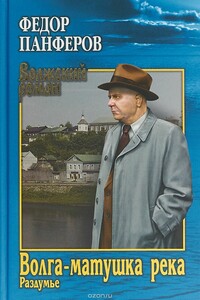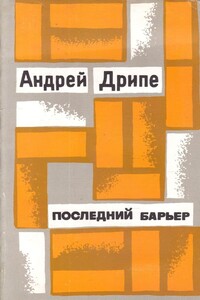Бруски. Книга III | страница 34
– Сколько ты за него?… Сколько за рысака-то? – приставал к нему мужик в чапане и в лаптях.
– Ты еще тут? – с досадой спросил Никита. – Из мордвов будешь? Сто целковых, русским языком тебе сказали. Золотом, – добавил он чуть спустя.
– Эх, где это нонче взять золото?
– Возьми где хошь. У вас, у мордвишек, золота много, – оборвал Никита и повел рысака на постоялый двор, держа в поводу двух молодых, игривых жеребят, любуясь их аккуратными, как стаканчики, копытами, еще не зная, что сказать Плакущеву о рысаке. «А, набрешу», – решил он, входя в избу.
В избе в пару и копоти трудно было разобрать, кто сидел за столом, и, только вглядевшись, Никита заметил, что около самовара сидит и сам Евстигней Силантьев. То, что Евстигней был когда-то толстый, можно было определить по складкам на его лице, шее. Казалось, что на него случайно натянули чужую кожу: она висела на нем так же, как висит отцовская рубашка на пареньке, Никита припомнил, как, бывало, Евстигней ел воблу. Он, не очищая ее, ел прямо с головы, со всеми потрохами, и хвалился при этом: «Оттого я и жирен, воблу вот так жру. Вобла – самая пользительная». А вот теперь он сидит тощий, грязненький, такой шелудивый, и часто-часто мигает, за что его и зовут все «Мигунчик». А рядом с ним Плакущев, Маркел Быков, юродивый монах… И этот тут – Петька Кульков. Ну, хахаль… успел уже прикатить… И еще сидят какие-то незнакомые Никите.
– Продал? – вопросом встретил его Плакущев.
– Смахнул. Рази такого коня не подцепят? – ответил Никита.
– Сколько?
– Да чего говорить. Стыдно говорить, – Никита махнул рукой и присел на конец скамейки.
– Сколько? – настойчиво переспросил Плакущев.
– «Сколько?» – злобно передразнил Никита. – Ты, чай, ждешь тыщу. «Сколько?» Девяносто шесть целковых – вот сколько, – выпалил он и вытер набежавшую слезу. – Сердце у меня выдернули с рысаком. Берег, берег, а теперь к козе под хвост. «Продай». Вот те и «продай».
Плакущев долго молчал. По лбу его забегали тени грусти, досады, жалости.
– Вот и продали, – он так вздохнул, ровно стоял перед гробом любимого сына. – Ну, черт с ним! – сорвалось у него, и все покосились, зная, что он никогда не ругался. – Давай деньги.
– Деньги? – Никита завозился. – Вот тридцать целковых задатку… Расписку давай, лист похвальный. Требует.
Плакущев искоса, недоверчиво посмотрел на Никиту, затем достал расписку, именной лист, в котором была записана вся родословная рысака, и положил перед Никитой. Наступило неловкое молчание. Тогда Маркел Быков, тараща глаза, низко опускаясь над столом, снова начал свой рассказ, прерванный приходом Никиты: