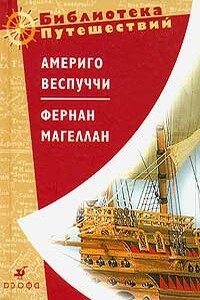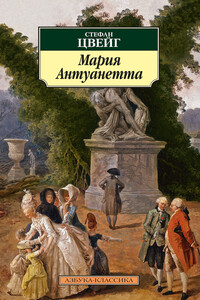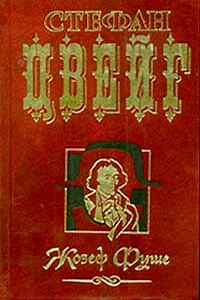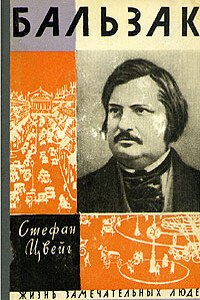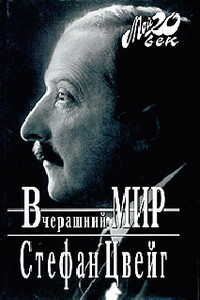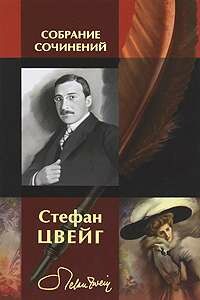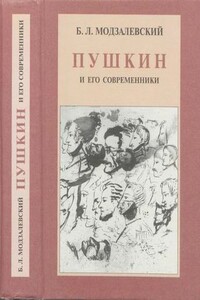Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой) | страница 23
Таким образом, любознательность Казановы исчерпывается только органическим - человеком; вероятно, за всю свою жизнь он не бросил ни единого мечтательного взгляда на звездный свод, и природа совершенно ему безразлична; никогда это торопливое сердце не воспламеняется ее спокойствием и величием. Попробуйте перелистать эти шестнадцать томов мемуаров: там путешествует зоркий и бодрый всеми чувствами человек по самым красивым странам Европы, от Позилинно до Толедо, от Женевского озера до русских степей; но напрасно будете вы искать хоть одну строку, посвященную восторгам перед красотами этих тысяч ландшафтов; какая-нибудь грязная девка в солдатском кабаке значит для него больше, чем все произведения Микеланджело; карточная игра в непроветренном трактире - прекраснее захода солнца в Сорренто. Природы и архитектуры Казанова вообще не замечает, потому что у него нет органа, связывающего нас с космосом, совершенно нет души. Поля и луга, блистающие на заре, покрытые росой, купающиеся в распыляющем краски сиянии утреннего солнца, - на это он смотрит просто как на зеленую плоскость, на которой потеют и трудятся глупые скоты-крестьяне, чтобы у князей было золото в карманах. Художественные боскеты [87] и темные аллеи еще принимаются в расчет как укромный уголок, где можно позабавиться с женщиной, растения и цветы годятся для случайных подарков и тайных игр. Но для бесцельных, непосредственных, природных красок этот вполне человеческий человек остается совершенно слепым. Его мир - это мир городов с их картинными галереями и местами для прогулок, где вечером проезжают кареты, темные покачивающиеся гнезда прекрасных женщин, где кофейни приветливо приглашают, на горе любопытным, метнуть банчок; мир, манящий оперой и публичными домами, в которых можно достать свежую ночную снедь; гостиницы, в которых повара изучили поэзию соусов и рагу и музыку светлых и темных вин. Лишь город для этого жуира является миром, потому что только в городе случай может развернуться во всем многообразии своих неожиданностей, потому что только там неведомое находит простор для самых зажигательных, самых восхитительных вариаций. Лишь города, наполненные человеческим теплом, любит Казанова; там ютятся женщины в единственной для него приемлемой форме, в изобилии, в сменяющемся множестве, и в городах он опять-таки предпочитает сферу двора, роскошь, потому что там сладострастие превращается в искусство, а этот чувственный широкоплечий парень, Казанова, вовсе не является человеком грубой чувственности. Художественно спетая ария может его очаровать, стихотворение осчастливить, культурная беседа согреть, как вино; обсуждать книгу с умными мужчинами, мечтательно склонившись к женщине, из тьмы ложи слушать музыку - это возбуждает волшебную радость жизни. Но не дадим ввести себя в заблуждение: любовь к искусству не переступает у Казановы границ игры и остается радостью дилетанта. Духовное должно служить жизни, а не жизнь духовному; он уважает искусство, как тончайший и нежнейший возбуждающий напиток, как ласковое средство пробуждать инстинкт, увеличивать вожделение, служить скромной прелюдией страсти, тонким предвкушением грубого плотского наслаждения. Он с удовольствием состряпает стихотворение, чтобы, перевязав его шелковой подвязкой, поднести желанной женщине, он будет декламировать Ариосто, чтобы воспламенить ее, или остроумно беседовать с кавалерами о Монтескье и Вольтере, чтобы проявить свое развитие и отвлечь внимание от руки, протянутой за их кошельком, но этот чувственный южанин никогда не поймет искусства и науки, требующих труда и напряжения, становящихся самоцелью и смыслом мира. Этот игрок инстинктивно избегает глубины, ибо его занимает лишь поверхность, только цена и аромат бытия, грохочущий прибой случая; это вечный жуир, вечный дилетант, и потому он так изумительно легок, так невесом, так окрылен. Подобно "Фортуне" Дюрера, обнаженными стопами попирающей земной шар, несомой крыльями и ветром случая, нигде не задерживающейся, никогда не отдыхающей и не хранящей верности, легко пробегает Казанова через жизнь, ничем не связанный, человек минуты и быстрых превращений. Перемена - это для него "соль наслаждения", а наслаждение, в свою очередь, единственный смысл мира.