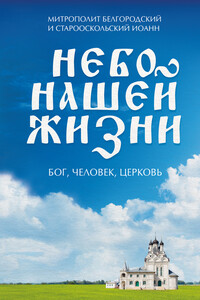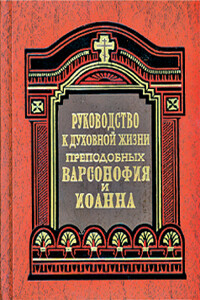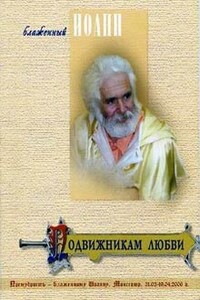Стояние в Вере | страница 52
Кроме Заместителя, существовал еще Патриарший Местоблюститель, к которому григориане должны были обратиться за санкцией на образование своего “синода”. Но, во-первых, они обратились к нему гораздо позднее, когда уже учредили Малый Собор Епископов, а во-вторых, санкции фактически не последовало. Митр. Петр условно передал свои права коллегии трех, но никак не ВВЦС, и когда коллегия была упразднена, обязанности Местоблюстителя вновь были переданы митр. Сергию. Это одна сторона вопроса. Другая, не менее важная, заключается в том, что григориане, не признав за митр. Сергием канонических прав на управление Церковью, самовольно предвосхитили власть и тем самым нарушили 34 и 31 апостольские правила.
Как мы уже говорили, высшее церковное управление в Поместной Церкви устанавливается Собором. Собором был избран Патриарх, Собор же, своим определением от 23 января 1918 года, ввиду сложных обстоятельств, предоставил Патриарху право лично, по своему смотрению назначить кандидатов в Патриаршие Местоблюстители. После смерти Патриарха, согласно его завещанию, церковное управление во всем объеме патриарших прав перешло к митр. Петру Крутицкому, который был утвержден в качестве первоиерарха собором епископов, присутствовавших на погребении Патриарха. Эта же власть перешла затем к митр. Сергию.
Утверждение последнего в качестве исполняющего обязанности Патриаршего Местоблюстителя происходило немного иным образом, чем назначение митр. Петра. Там сонм святителей (37 человек) [По другим данным — 60 человек] сразу вынес свое утверждение, а здесь это утверждение совершалось не одновременно: епископам рассылались письма, и те присылали ответ. В большинстве своем российский епископат выразил свое согласие и подтвердил канонические права митр. Сергия на управление. Это была не обычная форма избрания, но при тогдашних условиях, когда не представлялось никакой возможности созвать Собор, подобное избрание было каноничным, и в этом никто (кроме григориан) не сомневался.
Итак, образование ВВЦС не было каноничным ввиду того, что оно не было делом ни Собора, ни даже Патриаршего Местоблюстителя или его Заместителя. Все происходило самовольно и в нарушение церковного благочиния.
Неканоничным было и существование григорианского “совета”. Епископы, уклонившиеся в раскол, как дерзнувшие без воли своего первого епископа учредить новое церковное управление и нарушившие 14 и 15 правила Двукратного Собора, были запрещены в священнослужении и удалены от управления епархиями. Это запрещение, наложенное митр. Сергием, было подтверждено и митр. Петром. Однако запрещенные продолжали служить и управлять. Подобное действие, согласно 38 правилу Карфагенского Собора, ставило их под церковную клятву и лишало возможности на дальнейшую аппеляцию. Каждый, кто входил с ними в общение, подвергался той же самой клятве, которая налагалась церковной властью на григорианских епископов и рядовое духовенство за создание “иного алтаря”.