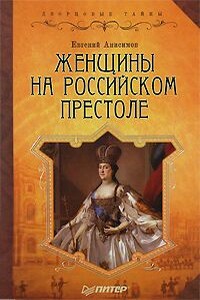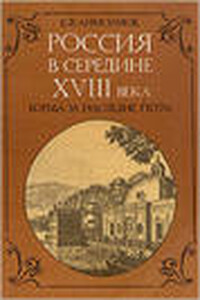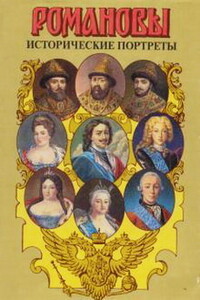Россия без Петра: 1725-1740 | страница 67
То, что новые правители России — сами бюрократы до мозга костей — начали бороться с излишним, по их мнению, ростом бюрократии, вполне естественно. Этим людям казалось, что эффективность и надежность аппарата управления зависят от сокращения его численности и общего удешевления. В России — стране обитания чудовищного бюрократического монстра — все это делалось неоднократно и безуспешно. Но те сокращения, о которых идет речь, имели свою идеологию, которую можно назвать «реставрационной». Под сомнение ставились прежде всего основные камералистские, взятые с Запада, принципы государственного строительства, положенные в основу петровских реформ. И здесь были две главные причины: верховники эти принципы не понимали и в условиях России эти принципы не работали.
Первое, что было ожесточенно раскритиковано и подверглось частичной отмене, — это принцип коллегиальности как в центральных, так и в местных учреждениях. 15 июня 1726 года в Совете «разсуждение было о множественном числе в коллегиях членов, от чего в жалованье происходит напрасный убыток, а в делах успеху не бывает». Из высшего эшелона коллежского управления было предложено оставить в каждой коллегии лишь президента, вице-президента, двух советников и двух асессоров и «быть из них одной половине в Петербурге», а другую распустить по домам без жалованья на том основании, что «в таком множественном числе во управлении лучшаго успеху быть не может, ибо оные все в слушании дел за едино ухо почитаются».
Это не только образное, но и точное определение. Действительно, коллегиальная система управления, которая должна была, по мысли Петра, поставить заслон самовластию прежних руководителей приказов — судей, явно не срабатывала. Президентами коллегий были, как правило, «принципалы» — приближенные Петра, и спорить с ними на заседаниях коллегии простым членам присутствия было небезопасно, — слишком неравны были, при формальном равенстве голосов, силы. Поэтому, прочитав сотни протоколов и журналов коллегий, очень редко встретишь споры и дискуссии по обсуждаемым Вопросам, — все споры решались еще до заседания, в кабинете президента. Да иначе и быть не могло — некоторые элементы и формы демократии (даже в ее бюрократическом, для пользы дела, смысле) тотчас извращались и угасали под сильнейшим влиянием всей системы, построенной на совсем иных принципах.
И верховники в этом смысле были реалистами — они тяготели к дедовским порядкам: в провинции — полновластный воевода, а руководитель центрального учреждения — судья приказного типа. Тогда же в Совете было «рассуждено», что поскольку в провинциальных городах кроме воевод есть еще «по нескольку человек асессоров, секретарей и к тому особливыя правления имеют камериры и рентмейстеры и при них подьячие и солдаты, також вальдмейстеры», то от обилия этих служащих случаются «в делах непорядки и продолжения… народу от многих и разных управителей тягости и волокиты».