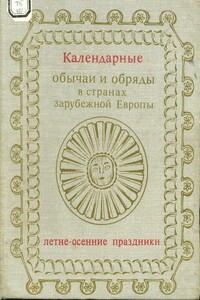Вавилонская башня | страница 107
При тоталитарных режимах мистическая “спортивность” вела в окопы, в демократических странах ее поглощало и использовало массовое искусство. Немцы играли в войну,американцы — в индейцев.
Соседство с “дикарями” своеобразно отразилось на общем строе американской культуры — больше, чем в других западных странах, она оказалась восприимчивой к архаическим влияниям. На протяжении нескольких веков индейцы служили американцам живым примером альтернативного мышления. Индейская культура оказалась если не мостом, то бродом, по которому Запад мог перебраться поближе к Азии, где то же мистическое мировосприятие хранили традиционные религии Востока.
Это стремление к евразийскому контакту ярко проявилось уже у американских трансценденталистов. Горячо увлекавшиеся Востоком Эмерсон и Торо предвосхищали ту самую смешанную “евразийскую” мультикультуралистскую философию жизни, за и против которой борется сегодняшняя Америка.
Исподволь архаические элементы так глубоко вошли в состав американской культуры, что их можно обнаружить на всех ее уровнях. Взять, например, центральную сцену всех вестернов — ковбойскую дуэль. Она всегда проходит в напряженной тишине и мучительно замедленном темпе. Это — единоборство двух воль, соперничество не в ловкости, быстроте или меткости, а в духовной силе. Тут нет решительно ничего общего с усладой
196
европейского авантюрного жанра — мушкетерской дуэлью, построенной на веселом мельтешений шпаги и языка. Ковбойский поединок намного ближе японской борьбе сумо. Главное тут, как и в вестерне, происходит еще до начала поединка, когда, как пишет мастер дзэна Сэкида Кацуки, противники “собирают все свои силы в состоянии наивысшего внимания, чтобы бросить против соперника всю свою мощь, когда она достигнет максимального уровня” [76]. Кстати, в Голливуде уже собираются снимать американо-японский вестерн, описывающий приключения борца сумо на американском фронтире*.
Черты восточного мировоззрения легко узнать в теории подтекста Хемингуэя. Его метафорический айсберг — прямой аналог чаньской (китайский дзэн) словесности. Предлагая русскому читателю ее образцы, переводчик В. Малявин пишет: “Среди последователей чань вошли в моду отрывистые, ломаные диалоги, в которых каждое высказывание застает собеседника врасплох и требует от него непроизвольной, лишь интуицией подсказываемой точности ответа” [77]. Не меньше китайских афоризмов эта формула подходит к хемингуэевскому диалогу. В “Фиесте” интуитивность речи — черта, отделяющая новое, “потерянное” поколение от предыдущего, довоенного: граф жалуется, что Брет Эшли, разговаривая с ним, не завершает фразы.