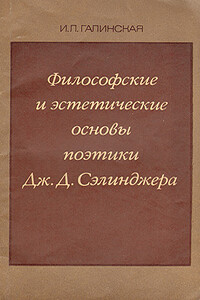Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях | страница 9
В примечаниях к «Евгению Онегину» А.С. Пушкин писал: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю».[27] В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» не только «время расчислено по календарю», но и налицо «местный колорит» московских и ершалаимских глав. В первом случае М.А.Булгакову ничего измышлять не нужно было, ибо он изобразил Москву по собственным впечатлениям, поскольку в его описаниях белокаменной присутствует репортерская точность. Для описания же жизни в древнем Ершалаиме М.А. Булгаков пользовался книжными источниками. Сохранившаяся тетрадь, названная писателем «Роман. Материалы», свидетельствует об этом. «В ней выписки — из Тацита (на французском языке и по-латыни); из книг Э. Ренана, Ф.В. Фаррара, А. Древса, Д.Ф. Штрауса и А. Барбюса; из „Энциклопедического словаря“ Брокгауза и Ефрона; из „Истории евреев“ Генриха Гретца; из книги профессора Киевской духовной академии Н.К. Маккавейского „Археология страданий Господа Иисуса Христа“ и др.,» — пишет Л. Яновская.[28] А еще, как заметил В. Лакшин в очерке «Булгакиада», писатель, «никогда так и не побывавший в дальних странах, питал слабость к географическим картам».[29]
Принцип «колорит места и времени», или «местный колорит» («couleur locale»), был теоретически обоснован Виктором Гюго в манифесте французского романтизма — предисловии к драме «Кромвель» (1827). Это понятие означает создание в тексте произведения словесного художественного творчества особенностей пейзажа и национального быта, которые присущи той или иной определенной местности, области или даже отдельному поселению и которые усиливают правдивость деталей, подчеркивают своеобразие речи персонажей.