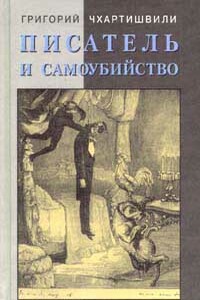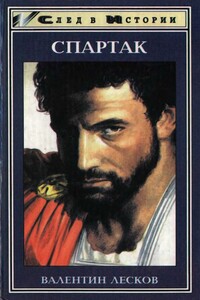Писатель и самоубийство. Часть 2 | страница 75
У Акутагавы есть новелла «Нос», навеянная одноименной повестью Гоголя. Только японец повернул сюжет иначе: как быть человеку, у которого нос не пропал, а наоборот, слишком уж явно присутствует — торчит на целых пять сунн?[10]
Монах Дзэнти, обладатель этого анатомического излишества, всю жизнь мечтает избавиться от уродства, сделать нос нормальным. В конце концов, после многолетних ухищрений, ему это удается, но, странная вещь, жизнь с нормальным носом вдруг оказывается лишенной смысла и даже невозможной. 24-летний автор смешной новеллы, очевидно, еще не предполагал, что тень «носа длиной в пять сун» накроет всю его последующую судьбу, став безжалостной притчей о самом себе. Писательский талант очень смахивает на монументальный нос монаха Дзэнти — это тяжкое бремя, мешающее наслаждаться радостями обычной человеческой жизни. Множество творческих людей, вслед за Вагнером, мечтавшим о тихой семейной жизни вдали от искусства, или Булгаковым, воспевшим прелести «вечного дома с венецианским окном и вьющимся виноградом», тосковали по неаномальной, нормальной жизни. Не чужд был подобным грезам и Акутагава. Герой новеллы «Ду Цзы-чунь» получает от старца-даоса в награду за перенесенные испытания не богатство и не славу, а «маленький домик на южном склоне горы Тай-шань», где персики в полном цвету. Однако, когда на середине четвертого десятилетия Акутагаве показалось, что «нос длиной в пять сун» может вот-вот отвалиться, писатель пришел в ужас и жить без этого безобразного нароста не захотел.
Что же произошло?
Стало все труднее браться за перо. С каждым днем нарастала беспричинная, необъяснимая тревога. Акутагава вдруг стал бояться, что сойдет с ума, как в свое время сошла с ума его мать. Что-то страшное, гнетущее таилось в глубинах подсознания: «Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. Там, во тьме, живут чудовища, каких на свету не бывает». Он очень много пишет, но все чаще возникает ощущение, что дару конец, что больше писать он не сможет. Это был еще даже не творческий кризис, а панический ужас перед неотвратимостью творческого кризиса. Можно сказать, что Акутагава умер от страха — той его разновидности, которая для людей искусства опасней всех иных страхов.