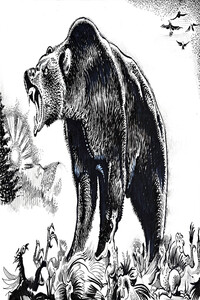Газета Завтра 852 (11 2010) | страница 7
Негативное отношение к нашей стране часто имеет и культурологическое наполнение. Культивируется сознательное взращивание такого отношения к православию, прежде всего при помощи пропагандистской подачи этой темы через конфликт цивилизаций. Православие характеризуется как "отсталое византийство", которое находится в прямом противоречии с "просвещенным католицизмом и протестантством".
Еще одна причина недоверия к России кроется в социальных факторах. Собственно, речь идет о явлении, известном больше как "американизм среднего класса". Союзничество с Москвой представляется путем к социально-экономической отсталости, ориентацией на низкое качество и уровень жизни.
В связи с этим очевидна закономерность, согласно которой даже незначительные признаки усиления собственной государственности в России вызывают рост русофобских настроений на Западе, нередки явно провокационные акции, в которых наиболее активную роль играют недавно примкнувшие к НАТО бывшие коммунистические страны, а также стремящиеся в эту организацию бывшие союзные республики.
Новые политические режимы, пришедшие к власти не без помощи из-за океана и насаждающие "демократические ценности", в том числе и с помощью тоталитарных методов, пытаются переписать историю в угоду своим хозяевам-колонизаторам, всячески поощряют в своих странах идеологию нацизма и героизируют фашистских пособников.
Осознавая идеологический и политический эффект, который имеет на постсоветском пространстве Победа СССР в Великой Отечественной войне, Вашингтон и его западные союзники усилили нажим на своих младших партнеров из государств Центральной и Восточной Европы в целях побуждения их к проведению выгодного для себя политического курса, вынуждая в том числе активизировать агитационную работу.
Одним из результатов подобной деятельности стало то, что в пропаганде и общественных науках ряда европейских государств укрепились геополитические подходы, согласно которым решающий вклад СССР в победу над нацизмом и фашизмом трактуется как отстаивание собственных "имперских амбиций" Москвы.
Такие новые исторические подходы стали обыденным явлением в Европе, а наиболее активную роль в этом играют польские и немецкие исследователи Второй мировой войны. При этом немцы из "чувства исторической ответственности" охотно предоставляют полякам и другим младоевропейцам площадки для таких экскурсов. Например, подобные конференции были организованы в начале прошлого года в Берлине Немецким обществом восточноевропейских исследований и берлинским Центром исторических исследований Академии наук Польши, а затем, в ноябре, в Польше при участии немецкого исторического института в Варшаве и руководства будущего музея Второй мировой войны в Гданьске. Суждения всюду сводились к вопросам "возрождения" исторической науки, которая после крушения коммунистических режимов в Европе стала "объективно исследовать" равную ответственность "двух тоталитаризмов" за развязывание Второй мировой войны. Как обычно, проводился сравнительный анализ между германской и "советской" оккупациями и делался вывод, что принесенный советскими войсками мир не означал-де свободу и демократию для Европы. Одновременно "борцы за историю" рапортовали о новом успехе — открытии в новом виде экспозиции в историческом музее г.Белостока, которая ранее, "по недосмотру местных властей", повествовала об освобождении города советскими войсками. Теперь же, согласно сообщениям польских СМИ, акцент сделан на подпольной деятельности бойцов Армии Крайовой в условиях оккупации.